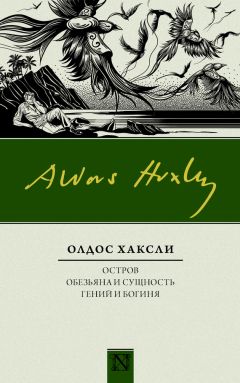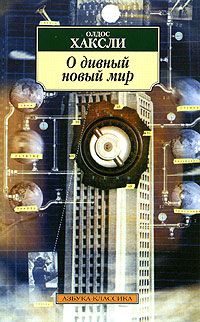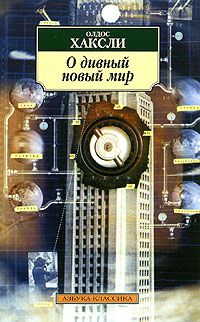Олдос Хаксли - Обезьяна и сущность (litres)
В кадре снова вождь. Лоб его нахмурен, он недоволен.
– Ох, уж эти мне передовые методы обучения! – обращается он к доктору Пулу. – Никакой дисциплины. Не знаю, куда мы идем. Вот когда я был мальчишкой, наш старый наставник привязывал их к скамье и обрабатывал розгой. «Я научу тебя быть сосудом», – приговаривал он, и – раз! раз! раз! Велиал мой, как они выли! Вот так и надо учить, я считаю. Ладно, хватит с меня этого, – добавляет он. – Пошли скорее!
Носилки выплывают из кадра; камера задерживается на Луле, которая с болью и сочувствием глядит на залитое слезами лицо и вздрагивающие плечи маленькой жертвы во втором ряду. Чьи-то пальцы прикасаются к руке Лулы. Она вздрагивает, испуганно оборачивается, но, увидев перед собой доброе лицо доктора Пула, успокаивается.
– Я полностью с тобой согласен, – шепчет он. – Это дурно, несправедливо.
Быстро оглянувшись вокруг, Лула осмеливается ответить ему слабой благодарной улыбкой.
– Нам пора идти, – говорит она.
Они спешат за остальными. Вслед за носилками выходят из кофейни, поворачивают направо и входят в коктейль-бар. Огромная куча человеческих костей в углу зала доходит чуть ли не до потолка. Сидя на корточках в густой белой пыли, десятка два ремесленников выделывают чашки из черепов, вязальные спицы – из локтевых костей, флейты – из берцовых, ложки, рожки для обуви и домино – из тазовых и втулки для кранов – из бедренных.
Объявляется перерыв; один из рабочих играет «Хочу детумесценции» на флейте из большеберцовой кости, а другой тем временем подносит вождю великолепное ожерелье из позвонков разной величины – от детских затылочных до поясничных боксера-тяжеловеса.
Рассказчик«…и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Сухие кости тех, кто умирал тысячами, миллионами в течение трех светлых летних деньков, которые у вас еще впереди. «И сказал мне: «Сын человеческий! оживут ли кости сии?». Я ответил отрицательно. Потому что, хотя Барух и может помочь нам не попасть (возможно) в подобное хранилище костей, он бессилен отвести от нас ту, другую, более медленную и гнусную гибель…
В кадре носилки, которые несут по ступеням к главному входу. Вонь здесь неимоверная, грязь – неописуемая. Крупный план: две крысы, гложущие баранью кость; рой мух над гноящимися веками маленькой девочки. Камера отъезжает, дальний план: несколько десятков женщин, половина из которых с выбритыми головами, сидят на ступенях, на полу среди отбросов, на распотрошенных остатках бывших кроватей и диванов. Каждая из них нянчит младенца, всем младенцам по два с половиной месяца, младенцы у бритоголовых матерей – уродцы. Кадры, снятые крупным планом: личики с заячьей губой, тельца с обрубками вместо рук и ног, ручонки с гроздьями пальцев, грудки, украшенные сдвоенными сосками; за кадром – голос Рассказчика.
РассказчикЭто другая погибель – на сей раз не от чумы, не от яда, не от огня, не от искусственно вызванного рака, а от бесславного разрушения самой сущности биологического вида. Эта страшная и совершенно негероическая смерть, предопределенная при рождении, может быть результатом как развития атомной промышленности, так и атомной войны. В мире, питающемся энергией атомного распада, бабка каждого человека так или иначе имела дело с рентгеновским излучением. И не только бабка – дед, отец, мать, три, четыре, пять поколений предков каждого человека, которые все ненавидят Меня.
С очередного уродца камера вновь переходит на доктора Пула, который стоит, прижав платок к своему слишком чувствительному носу, и с ужасом и смущением смотрит на происходящее вокруг.
– Все дети выглядят словно они одного возраста, – обращается он к стоящей рядом Луле.
– А ты как думал? Они же все родились между десятым и семнадцатым декабря.
– Но в таком случае… – страшно смутившись, запинается доктор Пул. – Похоже, – поспешно добавляет он, – что здесь все совсем не так, как в Новой Зеландии.
Несмотря на выпитое вино, он вспоминает о своей седовласой матери за океаном и, виновато покраснев, кашляет и отводит глаза.
– А вон Полли! – восклицает его спутница и спешит на другой конец зала.
Пробираясь между сидящими на корточках и лежащими матерями и бормоча извинения, доктор Пул движется вслед за нею.
Полли сидит на набитом соломой мешке рядом с бывшей кассой. Ей лет восемнадцать-девятнадцать, она невысока и хрупка, голова у нее выбрита, словно у приготовленного к казни преступника. Красота ее лица – в тонких чертах и огромных ясных глазах. С болезненным замешательством она поднимает их на Лулу, а потом равнодушно, безо всякого выражения, переводит их на лицо незнакомца, стоящего рядом.
– Милая!
Лула наклоняется и целует подругу. «Нет, нет», – видит доктор Пул. Лула садится рядом с Полли и обнимает ее, стараясь утешить. Полли утыкается лицом в плечо девушки, обе плачут. Словно разделяя их горе, уродец на руках у Полли просыпается и принимается жалобно попискивать. Полли поднимает голову с плеча подруги, ее лицо залито слезами; она бросает взгляд на безобразного младенца, расстегивает рубашку и, отодвинув красное «нет», дает грудь. Ребенок с неистовой жадностью принимается сосать.
– Я люблю его, – всхлипывает Полли. – Не хочу, чтобы его убили.
– Милая! – только и находит что сказать Лула. – Милая!
Громкий голос обрывает ее:
– Тихо там! Тихо!
Другие голоса подхватывают:
– Тише!
– Тихо там!
– Тише! Тише!
Разговоры резко стихают, и наступает долгое выжидательное молчание. Затем раздается звук рога, и чей-то удивительно детский, но тоже весьма уверенный голос объявляет:
– Его преосвященство архинаместник Велиала, владыка земли, примас Калифорнии, слуга пролетариата, епископ Голливудский!
Дальний план: парадная лестница гостиницы. В длинной мантии из англо-нубийского козлиного меха и золотой короне с четырьмя длинными, острыми рогами величественно спускается архинаместник. Служка держит над ним большой зонт из козлиной шкуры, за ним следуют два-три десятка церковных сановников – от трехрогих патриархов до однорогих пресвитеров и безрогих послушников. Все они – от архинаместника и ниже – безбороды, потны, толстозады, у всех них одинаковое флейтовое контральто.
Вождь встает с носилок и идет навстречу носителю духовной власти.
РассказчикЦерковь и государство,
Алчность и коварство –
Два бабуина
В одной верховной горилле.
Вождь почтительно склоняет голову. Архинаместник воздевает руки к тиаре, притрагивается к двум передним рогам и возлагает получившие духовный заряд пальцы на лоб вождя.
– Да не пронзят тебя никогда рога Его.
– Аминь, – отзывается вождь, выпрямляется и добавляет уже не почтительным, а оживленным и деловым тоном: – Для вечера все готово?
Голосом десятилетнего мальчика, в котором, однако, слышится тягучая и велеречивая вкрадчивость видавшего виды священнослужителя, давно привыкшего играть роль высшего существа, стоящего в отдалении от своих собратьев и над ними, архинаместник отвечает, что все в порядке. Под личным наблюдением трехрогого инквизитора и патриарха Пасадены группа посвященных служек и послушников проехала по всем поселениям и провела ежегодную перепись. Все матери уродцев помечены. Им побрили головы и осуществили предварительное бичевание. На сегодняшний день все виновные переправлены в один из трех центров очищения, расположенных в Риверсайде, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Ножи и освященные воловьи жилы готовы, и, если Велиалу будет угодно, церемония начнется в назначенный час. К завтрашнему дню очищение страны будет завершено.
Архинаместник еще раз делает рожки и на несколько секунд застывает в молчании. Затем, открыв глаза, поворачивается к свите и скрипит:
– Забирайте бритых, забирайте эти оскверненные сосуды, эти живые свидетельства Велиаловой злобы и отведите их на место позора.
Дюжина пресвитеров и послушников сбегают с лестницы в толпу матерей.
– Живей! Живей!
– Во имя Велиала!
Медленно, неохотно безволосые женщины поднимаются. Прижимая свою маленькую изуродованную ношу к налитой молоком груди, они идут к дверям – в молчании, которое говорит о горе красноречивей любого крика.
Средний план: Полли на мешке с соломой. Молодой послушник подходит и грубо ставит ее на ноги.
– Вставай! – голосом сердитого и злобного ребенка кричит он. – Поднимайся, вместилище мерзости!
Он бьет Полли по щеке. Девушка отшатывается в ожидании следующего удара и почти бегом присоединяется к подругам по несчастью, толпящимся у входа.
Наплыв: ночное небо, сквозь тонкие полоски облаков просвечивают звезды, ущербная луна клонится к западу. Долгое молчание, затем слышится отдаленное пение. Постепенно мы начинаем различать слова: «Слава Велиалу, Велиалу в безднах!» – которые повторяются снова и снова.