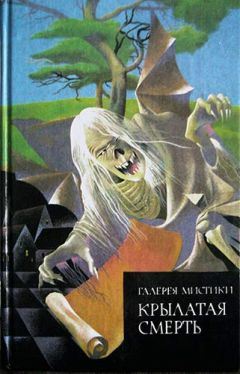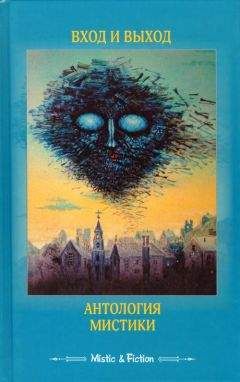Элджернон Блэквуд - Кентавр
— У меня лучше получится с другой стороны — из того древнего сада, лежащего в сердце Матери-Земли. Так выйдет без ошибки!
XLVI
Так вышло, что мы снова повстречались в конце сырой и туманной осени, в воздухе уже тянуло зимой, Лондон сделался унылым, и исхудалый, запущенный вид друга сразу все мне поведал. Лишь прежняя страстность в голосе доказывала, что дух его не ослабел. Прежний огонь светился в его глазах и выражении лица.
— Я сделал великое открытие, старина! — воскликнул он с прежним воодушевлением. — Наконец открыл!
— Ты и прежде делал их немало, — жизнерадостно откликнулся я, хотя мысли мои занимало его печальное состояние здоровья.
Внешний вид его меня просто поразил. Теренс стоял среди разбросанных бумаг, книг, галстуков, сапог, рюкзаков и географических карт, высыпавшихся из брезентового мешка. Старый костюм серой фланели свисал с сущего скелета, вся жизнь сконцентрировалась в глазах — дальнозорких, голубых глазах его. Теперь они сделались темнее, словно в них плескалось море. Волосы, отросшие и нечесаные, падали на лоб. Он был бледен, и в то же время на щеках горел лихорадочный румянец. Передо мной стоял почти бесплотный дух.
— Ты и прежде делал их немало. С удовольствием послушаю. Это еще лучше прочих?
Несколько мгновений он смотрел как бы сквозь меня, мне даже стало немного не по себе. На самом деле он зрел дальше и видел совсем не меня, я даже обернулся, но ничего не разглядел в сгущающихся сумерках.
— Проще. Намного проще, — быстро ответит он.
Придвинувшись ближе, он зашептал. Показалось ли мне, или от его дыхания действительно пахнуло цветами? В воздухе действительно стоял странный аромат, дикий и пряный, как в саду весной.
— И что это?
— Сад повсюду! Вовсе не надо отправляться на Кавказ, чтобы его обнаружить. Он и тут, в старом Лондоне, на его туманных улицах и грязных мостовых. Даже в этой заполненной хламом, неубранной комнате. Сейчас, когда гаснет лампа и тысячи людей забываются сном, врата из рога и слоновой кости здесь, — похлопал он по груди. — И цветы, длинные гряды холмов, обдуваемых ветром, огромное стадо, нимфы, солнечный свет и боги!
Теперь он так привязался к комнатке в Пэддингтоне, где были сложены все его книги и записи, что, когда странная болезнь, поразившая его, усилилась, а приступы безымянной лихорадки участились, я нанял спальню для него в этом же доме. И в той дешевой комнатушке, похожей на клетку, он испустил последнее дыхание.
Я назвал его болезнь странной, поскольку ее так никто и не распознал. Он словно просто угас, не страдая ни от боли, ни от бессонницы. Он ни на что не жаловался и не проявлял симптомов ни одной из известных болезней.
— Ваш друг физически вполне здоров, — сказал мне врач, когда я потребовал от него на лестнице, после осмотра, сказать правду, — вполне. Ничего, кроме свежего воздуха и хорошего питания ему не требуется. Его тело не получает питательных веществ. Проблема не в душевной сфере, вне всякого сомнения, связана с неким глубоким разочарованием. Если бы вам удалось переменить направление его мыслей, пробудить интерес к обычным вещам, переменить обстановку, возможно, тогда…
Он пожал плечами с озабоченным видом.
— Скажите, он умирает?
— Думаю, да, он умирает.
— От…
— Просто от недостатка жизни. Он потерял желание жить.
— Но у него еще осталось много сил.
— Он полон сил. Но все они иссякают бесследно, уходят куда-то. Организм ничего не получает.
— А как с психикой? — спросил я. — У него нет никаких отклонений?
— В обычном смысле слова, нет. Его сознание вполне ясное и активное. Насколько могу судить, мыслительный процесс не нарушен. Мне кажется…
Пока шофер накручивал рукоять стартера, доктор задержался немного на пороге дома. Я с тревогой ожидал окончания фразы.
— …это похоже на особый случай ностальгии, весьма редко встречающийся и трудноизлечимый. Острая и жестокая ностальгия, которую порой зовут «разбитым сердцем». — Стоя уже у дверцы автомобиля, он еще на минуту задержался. — Когда вся жизненная энергия человека устремляется к далекому и недостижимому месту, или человеку, или… или же неким воображаемым желаниям, которые он стремится удовлетворить.
— К мечте?
— Может быть, даже и так. — Садясь в машину, он продолжал размышлять: — Причина вполне может быть духовного порядка. Люди религиозного и поэтического склада наиболее подвержены, и их труднее всего вылечить, когда они впадают в такое состояние. — Чувствовалось, что доктору с трудом удается скрывать уверенность в своем диагнозе. — Если вы действительно хотите спасти его, постарайтесь переменить направление его мыслей. Должен признаться, я тут не в состоянии ничего предпринять.
И затем, чуть потянув за седую бородку и глянув на меня поверх очков, с сомнением в голосе добавил:
— Вот только те цветы, лучше бы их убрать из комнаты. Слишком сильно пахнут… Так будет лучше.
Он снова пристально глянул на меня. В глазах мелькнуло странное выражение. А меня тоже охватило непонятное смятение, я даже на какое-то время потерял дар речи, а когда вновь смог говорить, автомобиль доктора уже скрылся за поворотом. Ведь в той комнатушке никаких цветов не было, но, видимо, аромат полей и лесов достиг также и доктора, чем тот был порядком смущен.
«Переменить направление его мыслей!» Я зашел в дом, раздумывая, как честному и не только о себе думающему другу последовать совету доктора. Каким иным мотивом, кроме как вполне эгоистичным желанием сохранить Теренса для своего собственного удовольствия, мог я руководствоваться, пытаясь отвратить его мысли от воображаемых радостей и мира к страданиям и низким фактам повседневного существования, которые он столь презирал?
Тут дорогу мне преградила растрепанная светловолосая хозяйка, у которой мы квартировали. Миссис Хит остановила меня в коридоре, желая добиться ответа, не хотели бы мы договориться «касательно расчета». Манеры ее были вполне решительны. Оказалось, что Теренс задолжал за три месяца.
— Его спрашивать толку никакого, — вела она свое, хотя в целом и не зло. — Больше мочи нет терпеть проволочки. Он все говорит о богах да каком-то мистере Пане, который за всем присмотрит. Но я-то никогда ни его самого не вижу, ни этого его мистера Пана. А всех вещей его там, — кивнула она в сторону комнаты жильца, — если продать, так на сэнкимудскую[109] книгу гимнов не хватит!
Я успокоил ее. Невозможно было не улыбнуться в ответ на ее речи. К тому же я заметил про себя, что для некоторых книга гимнов Сэнки могла содержать мечты не менее возвышенные, чем у моего друга, и гораздо менее беспокойные. Однако эта фраза про «какого-то мистера Пана», который мог бы поручиться за жильца перед хозяйкой, послужила невольным комментарием к современной точке зрения, отчего мне захотелось скорее заплакать, чем засмеяться. О’Мэлли и миссис Хит, не ведая того, обрисовали глубокую пропасть, что пролегла между ними…
Теренс постепенно угасал, покидая бушующий внешний мир ради внутреннего покоя. Центр его сознания переместился из переходной формы призрака в более глубокое постоянство вечной реальности. Так он объяснил мне происходящее в одну из наших последних странных бесед.
Теренс наблюдал за собственным уходом. Он часами лежал в постели, уставившись счастливыми глазами в никуда, лицо его положительно сияло. Пульс часто почти совсем пропадал, казалось, О’Мэлли уже не дышит, но сознания он не терял и в транс не погружался. Когда я находил в себе силы обратиться к нему, чтобы вернуть обратно к жизни, мой голос достигал его ушей и он отвечал. Тогда глаза тускнели, теряли счастливый свет, обращаясь ко внешнему миру, на меня.
— Тяга теперь так велика, — шептал он, — я был далеко-далеко, в средоточии жизни Земли. Зачем ты возвращаешь меня назад, к этой суете? Здесь я ничего не могу поделать, там я нужен…
Он говорил столь тихо, что приходилось нагибаться почти к самым его губам. Долго сидел я возле его кровати. Был поздний час, снаружи стоял гнетущий желтый туман, но моего друга окружал аромат деревьев и цветов. Несильный, трудно было сказать, какими именно цветами пахнет, — именно таков воздух на нагретой лесной опушке или холме. Он чувствовался в самом дыхании Теренса.
— Каждый раз возвращаться все труднее. Там я живу полной жизнью и чувствую свою силу. Я могу работать и посылать свою весть, все получается. Здесь же, — он с улыбкой оглядел свое исхудалое тело, — я все еще на краю, это приносит боль. Тяжело сознавать свое бессилие.
В глазах снова засветился знакомый огонек.
— Мне показалось, ты захочешь мне что-то рассказать, — продолжал я, стараясь сдержать слезы. — Ты никого не хотел бы увидеть?
Он медленно покачал головой и дал странный ответ: