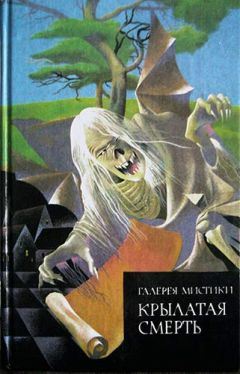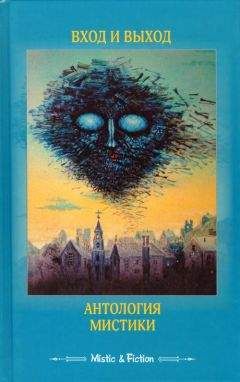Элджернон Блэквуд - Кентавр
Пока они обедали в тени деревьев за маленьким столиком, ирландец вкратце познакомил приятеля со своими приключениями.
— Материалы для газет отправлены, теперь, может, приметесь за книгу? — спросил доктор.
— Возможно, это и выльется в книгу, но пока вырывается из меня мощными фрагментами, помимо воли.
— Значит, вы сами не желали бы…
— Все это слишком… огромно. Спутник показал мне столь блистающие чудеса. Рассказать я еще могу, а вот изложить на бумаге… — Он лишь пожал плечами.
Эти слова доктор Шталь уже не пропустил без комментария. Однако его реакция была непредсказуемой. Он не стал задавать вопросов, а лишь заметил:
— Друг мой, хочу сказать вам кое-что или, вернее, показать, — с этими словами он знакомым жестом положил руку на плечо Теренсу, очень пристально на него посмотрел и закончил совсем тихо: — Это может вас расстроить, даже поразить. Но если вы готовы, пойдемте…
— Поразить чем? — спросил О’Мэлли, несколько смущенный серьезностью предупреждения.
— Встречей со смертью, — был тихий ответ.
При этих словах ирландца лишь охватило радостное предчувствие и любопытство.
— Но ведь ее не существует! — Он едва не смеялся. — Это он мне в первую очередь внушил. Смерти не существует.
— Однако все мы уходим, — отозвался доктор, — земля к земле, прах к праху…
— Лишь наше тело!
— Да, верно, наше тело, — мрачно ответил собеседник.
— Есть лишь возвращение домой, освобождение. Больше ничего, поверьте. Стоит понять по-настоящему — и останутся лишь радость и величие.
Доктор Шталь на это ничего не ответил. Расплатившись по счету, он повел ирландца дальше по улице. Они шли по тенистой стороне и молча вслушивались в звуки города. В казармах пели солдаты, по железной дороге на Тифлис и Баку двигался поезд. Миновав купол мечети с минаретами, приятели наконец вышли на пыльную раскаленную дорогу вдоль моря. Оттуда уже слышен был звук прибоя, на темно-серую гальку пляжа накатывали невысокие волны, оставляя полоски пены.
Достигнув укромного уголка, поросшего выгоревшей на солнце травой и засаженного тоненькими деревцами, они остановились, и Шталь указал на могильный холмик, по обоим концам отмеченный простыми валунами. Там значилась дата, но имени не было. О’Мэлли мысленно соотнес эту дату русского календаря с более привычной для себя. Шталь подсказал:
— Пятнадцатого июня.
— Да, пятнадцатого июня, — с расстановкой проговорил О’Мэлли, в то время как во взволнованном сердце его вздымалось удивление. — Именно в тот день Рустем пытался убежать, в тот день я увидел своего друга, который показался из-за деревьев, и мы отправились вместе… в сад.
Теренс вопросительно повернулся к приятелю. На краткий миг воспоминания вырвали его из действительности.
— Как видите, он не покидал Батума, — продолжал Шталь, не поднимая головы. В ту же ночь, когда мы зашли в порт, меня позвали к нему, как раз когда вы так крепко спали. К нему вернулась мучавшая его непонятная лихорадка, поэтому я спустил его на берег, пока не проснулись остальные пассажиры. И сам привез его в больницу. Он больше так и не поднялся с постели. — И, указав на безымянную могилу у их ног, на которой ветерок с моря шевелил траву, Шталь сказал: — Он умер в тот же день. Ранним утром, — добавил он тихо, с печальным участием.
— Он вернулся домой, — откликнулся ирландец.
Невыразимая радость наполняла его сердце. Тайна его вожатого была раскрыта. Сомнений быть не могло: его приключения были полностью духовны.
В воздухе повисло молчание.
На могиле не росло цветов, но О’Мэлли наклонился и сорвал несколько высохших травинок. Их он бережно заложил меж страниц своего блокнота, а затем приник к земле, выбеленной яростным солнцем, и прижался губами к сухой почве. Он лобызал Землю. Не обращая внимания на стоящего рядом Шталя, он поклонялся ей.
И тогда до него донесся звук, так любимый им, ибо он вмещал в себя всю глубину его страсти. Уши, приникшие к земле, ясно слышали его, но звук этот доносился отовсюду, создаваемый волнами, набегающими на берег, шорохом ветвей над головами, даже шелестом пожухлой травы. И в материнском сердце Земли он слышал тот звук, бившийся ритмичным пульсом. То был томительный зов тростниковой флейты вечного Пана…
Поднявшись на ноги, Теренс обнаружил, что Шталь отвернулся от могилы и теперь смотрел на море, не подавая вида, что заметил его действия.
— Доктор, — почти шепотом окликнул он его, — я вновь слышу мелодию, она доносится отовсюду! О, скажите, что и вы слышите ее!
Шталь обернулся и молча на него посмотрел. Глаза его увлажнились, а лицо обрело мягкое, почти по-женски сочувственное выражение.
— Это я, я вызвал ее. Ибо это и есть послание: мелодия, которую я должен донести миру. Никакие слова, ни одна книга не способны передать того, что сообщает она. — О’Мэлли стоял с непокрытой головой и сияющими глазами, а голос срывался от страстного стремления поделиться с людьми радостью, которую не знал, как передать. — Если я смогу сыграть на флейте Пана — услышат миллионы и… последуют за мной. Скажите ж, прошу, что вы тоже слышали ее!
— Мой друг, дорогой юный друг мой, — прочувствованно сказал немец, — вы действительно слышите ту мелодию, но сердцем. Совсем немногие слышат флейту Пана, подобно вам, и дают себе труд прислушаться. Современный мир полон звуков совсем иного рода, заглушающих ее. Но и из тех, кто слышит, — пожал он плечами, взял Теренса под локоть и повел к морю, — сколько таких, что захотят последовать зову, а тем более — отважатся на это?
Лежа на берегу, глядя на прибой у ног и на чаек, парящих в голубом небе, он добавил едва слышно:
— Простая жизнь утрачена навсегда. Она уснула в далеком Золотом Веке, и лишь те, кто спит и видит сны, способен ее отыскать. Если вы можете сохранить в себе радость — не просыпайтесь, мой друг! Мечтайте, но в одиночку!
XLI
Лето сверкало повсюду, а море растекалось синевой расплавленного неба и солнца. Вершины Кавказских гор вскоре скрылись на северо-востоке, а на юге, поросший лесом, холмился берег, сливавшийся почти неразличимо с синевой моря и неба.
Пассажиров первого класса было немного, О’Мэлли почти не замечал их присутствия. В Трапезунде на борт поднялся американский инженер, который строил железную дорогу в Турции; еще были две дамы-блондинки, возвращавшиеся домой из Баку, и атташе какого-то иностранного представительства в Тегеране. Но ирландцу больше пришлись по душе около сотни крестьян из Малой Азии, севшие на корабль в Инеболи, которые направлялись третьим классом в Марсель, а потом дальше, в Америку. Смуглые, диковатого вида, оборванные, очень грязные, с морем они встретились впервые, а вид дельфинов их просто поразил. Они жили на корме, там же и готовили, а их женщины и дети спали под брезентовым навесом, который матросы натянули специально для них над всей палубой. Вечером они принимались наигрывать на дудках, танцевали, пели и временами выкликали что-то, размахивая руками, всегда под один и тот же мотив.
О’Мэлли наблюдал за ними часами. За инженером, расфуфыренными дамами и атташе он тоже наблюдал. И понимал теперь разницу между этими людьми так, как никогда прежде. Сейчас он впервые оценил сложность вставшей перед ним задачи: как вообще возможно хоть что-то объяснить таким, как пассажиры первого класса, как возбудить в них хотя бы слабый отзвук желания узнать и вслушаться? Крестьяне, не подозревая о бессмертной красоте у себя под носом, тем не менее были намного ближе к постижению истины…
— Ездили дальше на восток, верно? — предположил инженер однажды вечером, когда пароход остановился в Брусе забрать добавочный груз орехового дерева. Он с восхищением глядел на побронзовевшую кожу ирландца. — Под этим солнцем так не загоришь!
Он заразительно засмеялся, Теренс подхватил смех. Меж ними уже установилась обычная среди путешественников приязнь, и американец не упускал случая, чтобы поговорить.
— Бродил по горам, — ответил ирландец, — останавливался и спал под открытым небом, вот и загорел.
Инженер внимательно посмотрел на ирландца, сомневаясь, не пропустил ли случайно остроту. Но О’Мэлли не ответил на взгляд. Глаза его были устремлены вдаль, на снежную вершину Олимпа, курчавившуюся пушистыми облачками, словно чело вечных богов.
— Говорят, тут прорва древесины за так пропадает, можно было бы всю скупить по цене дров да спустить к побережью, сплошь кавказский орех, — перенося разговор на более привычную почву, продолжал американец, — а рабочая сила тут просто даровая. Сколько Бог создал полезных ископаемых — все тут. Можно построить узкоколейку и пустить электропоезд. Падающей воды сколько угодно. Правда, вначале придется выкупить концессию у России, — заметил он, сплюнув на толстенное бревно в кристально прозрачной воде, — а руки у русских требуют массу смазки. Плюс местные племена тоже, вероятно, хлопот доставят.