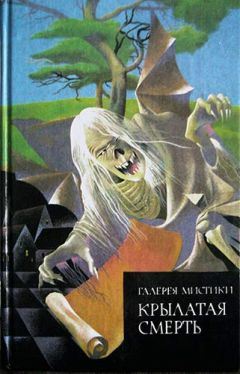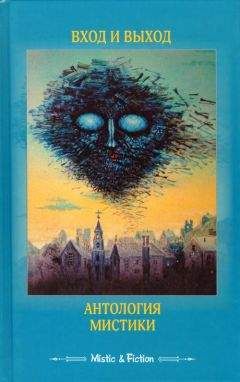Элджернон Блэквуд - Кентавр
На время он мог входить в такое состояние уже давно — во сне, грезах. В тех возбуждающих воображение трансах, когда он почти совершенно покидал тело, но выйти из него окончательно означало пойти на большее, чем простое обездвиживание. Он был свидетелем тому, что требовалось от него: полное высвобождение двойника при так называемой смерти, как у мальчика…
Поэтому, по мере того как они продвигались на север, в направлении могучего Эльбруса и границ Сванетии, в глубине души ирландец ощущал, что они приближаются к желанному саду и тем величественным вратам из рога и слоновой кости, которых пока не удавалось отыскать — оттого что он страшился позволить себе сделать шаг к ним. Нередко останавливался он под стенами сада, ощущал аромат его цветов, слышал звуки песен и даже улавливал тени той роскошной жизни, что протекала внутри. Но врата никогда не сияли для него, даже в небесах грез, поскольку взгляд всегда туманила тревога. Ему казалось, что врата раскрываются лишь в одну сторону — впуская внутрь, и он не мог решиться, медлил, возвращался… Многие совершали эту ошибку, подобно ему. Но там, внутри, не потребуется возвращаться, ибо на самом деле стены распахиваются наружу и заключают весь мир.
Цивилизация и человечество — эти слова человек меньшего масштаба видения оставил ему в качестве пароля безопасности. Теперь же он открыл, что простота и любовь служили более верными ключами. Этому безмолвно научил его друг-великан. Теперь сомнений не было.
В том маленьком селении их встреча прошла без единого слова. Никто ничего не сказал. Лишь взглядом русский спросил: «Как, идешь?» — и всем телом подался в том направлении, куда им предстояло двигаться, а когда ирландец согласно кивнул, то жестом подтвердил: «Значит, идем вместе». И они двинулись бок о бок, ничуть не медля.
Лишь оглядываясь назад, О’Мэлли мог заметить некоторую странность столь внезапного и согласного отправления в дорогу, тогда же оно представлялось совершенно естественным и неизбежным, как необходимость плыть после прыжка в воду. С той вершины, на которой ирландец стоял, мелкие детали были не видны — в экзальтации его занимали более возвышенные видения. Детали повседневной жизни скрылись за горизонтом. О пище, лошади и одеялах он даже не подумал. Совершенно безрассудно, ничем не стесненные, отправились они в путь. Так он мог бы взять в спутники ветер, солнечный луч или дождь. Ведомые единой мыслью или прихотью, и тогда бы могли испытать они больше забот, теперь же шли беззаботно и вольно.
Чуть задержалась одна подробность внешнего мира, хотя и она стремительно удалялась в сознании, словно погружаясь в глубь вод: образ бегущего крестьянина. Вспомнилось, как тот наклонился, чтобы подхватить и набросить башлык. Но эта картинка виделась будто совсем издалека. Не успел башлык закрыть голову Рустема, как все затуманилось и исчезло…
XXXI
Кругом цвела весна, и флейты Пана играли повсюду. Сияние первого утра мира ничто не затеняло. Жизнь текла, пела и танцевала, обильная и вольная. Она омывала горы и безупречной синевы небо. И его вместе с ними. Окунувшись в сияние и очистившись в нем, он шел по Земле, что раскинулась вокруг в юной прелести. Вечная весна пронизывала хрустальным смехом мир света и цветов — цветов, которые никто не рвал и не губил, света, который не мог померкнуть под крышами или в четырех стенах.
Весь день без всякого труда, словно на ногах выросли крылья, спутники поднимались по крутому склону, поросшему самшитом и буком, пересекали заросшие золотистыми азалиями широкие поляны, а ветер, прохладный, как на рассвете, подгонял их. Несмотря на масштабы и дикость, здешние места странным образом напоминали парк: огромные кустистые деревья стояли, словно причесанные ветрами, то шуршащими, то свищущими в их листве. Меж рододендронов протянулись поросшие густой травой дорожки и более широкие пути, древнее Луны, которые лишь недавно покинули тысячи садовников-ветров, перешедших к заботам в соседнем краю. Над всем витал дух красоты и простой жизни древности, мягкий отсвет зари мира.
Все ближе и ближе, глубже и глубже, быстрее и быстрее, напрямик к материнскому сердцу стремился О’Мэлли. По самым чувствительным путям внутреннего бытия, столь незаметным, мягким и незамысловатым, что у большинства людей они просто зарастают или остаются совсем невидны, он радостно скользнул чуть ближе — еще на одну ступень — к истинной реальности.
А флейта Пана в полный голос пела над вершинами и долинами Кавказа.
О сладкоголосый Пан!
Чарующе льющий трели возле реки!
Ослепительно-сладостный великий бог Пан!
Солнце на холме не стало умирать,
Лилии ожили, а стрекозы
Вернулись грезить у реки.
Великан размашистыми шагами, больше не спотыкаясь неуклюже, как на том игрушечном пароходике, где пытался вписаться в меньшую амплитуду движений, привычных людям, уверенно шел во главе по ведомым ему тропам, вернее — по непроторенному простору мира, с любовью расстеленного ему под ноги планетой. Ветер, дующий с равнин, давно оставленных позади, служил им мудрым попутчиком. До их ушей доносились не слабые звуки рожка из волшебной страны эльфов, но трубный глас прамира, нарастающий по мере приближения к цели. Величественные склоны под ними мягкой зеленой пеной заливали буковые леса, а на луговинах блестели и звенели ручьи. В полдень, когда слишком пекло, они останавливались вздремнуть в тени скал, а иногда шли еще долго после захода солнца, руководствуясь звездами и намеками ветров. Даже лунный свет, заливавший одинокий мир серебром, соперничающим с белизной горных вершин, был к ним благосклонен, полубожествен… О’Мэлли казалось, что и во сне за ними наблюдали и присматривали — словно другие, ожидавшие их, спустились, чтобы встретить на полдороге.
И непрестанно нарастало счастье: теперь он ощущал себя воссоединившимся, полным, целостным. Будто его Я передавалось бесчисленным тысячам других, становясь несметным, как песок. Он был везде, во всем — сиял, пел, танцевал… Вместе с древними лесами он дышал, с водными потоками струился по тенистым долинам, с каждой вершины взывал к Солнцу и вместе с ветрами облетал широко раскинувшиеся отроги. Вокруг него простерлось цветущее создание — Кавказ, огромный и безмолвный, нежился он на солнце. Но горы вмещались и внутрь него, расширяющееся сознание включило их в себя. Через них как раннее мощное выражение настроя природы О’Мэлли проник к душе Земли, подобно ребенку захваченный всепобеждающей материнской нежностью, приник он к сердцу той, что дала ему жизнь. Его окутала любовь, он ощутил силу вечных объятий Земли.
XXXII
Туда, о да, к тому, что глубже, чем любовь к гордыне,
И даже глубже, чем цветение добра, позор греха,
Сорвать вуаль и одному уйти туда, где все — труха,
Нагим, потерянным отныне.
Почувствуй, где родился ты — в огромном мире, не в немой пустыне!
Иль Мировой Души какой ты стал частицей?
Так слейся с ней и ощути, к какой великой жизни причастился.
В любви воспрянь вселенским утром.
Да, суть твоя так страстно рвется к центра цели,
Но беспредельно достижима цель в дороге без конца;
Из бытия глубин вздымается прилив и заливает мели,
С зенита льется свет из вечного дворца;
Так жизнь твою и суть жизнь космоса собою отогрела,
И все они есть Бог, и ты — они, как видно мудрецам.
Дальнейшее повествование унесло меня в волшебную страну, но такая действительно существует, ибо живет в сердце каждого человека, имеющего воображение и не замыкающегося от вселенной в тесном мирке.
Если перенесенный О’Мэлли на бумагу рассказ, а в особенности его записи в растрепанных блокнотах приводили меня в замешательство, переданное им на словах приоткрыло ощущение безмерности и счастья, которые он испытал. Я уловил лишь отдельные сцены, залитые ослепительным светом. Их бессвязность передавала величие целого лучше, чем любая последовательная увязка.
Кульминация отсутствовала. Повествование двигалось кругами. По мере того как я слушал, меня обволакивало ощущение вечности, поскольку он поместил рассказ вне времени и пространства, и я также начал грезить. Как никогда ясными сделались слова «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»[94]. Вероятно, так чувствовал себя монах, для чьего сердца прошла сотня лет, пока он внимал песне птички.
На мои вопросы практического свойства, которыми я по глупости вначале тревожил его, мой друг не ответил, поскольку был не в состоянии. Но не было ни малейшего сомнения, что излагаемое не плод художественного воображения.