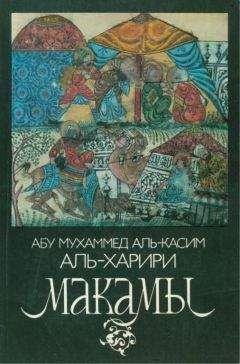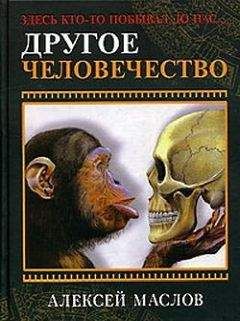Александр Житинский - Вчера, сегодня, позавчера...
И тут я с изумлением подумал о том, что у меня в семье и вправду полный порядок, что мы с Ириной живем дружно и любим наших детей, что семья стала необходимой моей частью и что дом, который мы только начинали строить вчера, уже построен. А построен он во многом благодаря тебе. Ты единственная могла его разрушить восемь лет назад, но не пожелала этого сделать. Тогда достаточно было даже не твоего желания, а просто согласия – достаточно было писать мне чуть-чуть более ласковые письма, достаточно было появиться еще хотя бы на день в январе, но ты не захотела строить свой дом на обломках чужого…
Те полгода я не люблю вспоминать. Я будто ходила по ниточке. Внешне все было спокойно, но у меня стали появляться седые волосы. Я выдергивала их и рвала на части от бессилия. И все время твердила себе:
«Подожди, подожди… Еще недельку, еще месяц…»
Развод – это самое простое. Только на первый взгляд он требует душевных затрат. На самом же деле, по-моему, это нервный вопль эгоизма. Душевного труда требует семья, складывание дома по кирпичику. Не знаю, с какого дня, с какого часа, может быть, я почувствовала, что от меня уже что-то зависит. Я поймала кончик ниточки и стала осторожно тянуть. Алик все еще думал, что хозяин положения он, и еще весь был в том ослепительном дне, в августе. Но уже подходил Новый год, и я знала, что мы проведем его вместе, хотя оснований для таких мыслей совсем еще не было.
Я видела, что он вспоминает тот день ежеминутно, и мне казалось, что я сама вместе с ними хожу по улицам, горюю и прощаюсь.
…В аэропорту мы зарегистрировали мой билет, поскольку он сыграл в нашей жизни большую и почетную роль, и его непременно следовало зарегистрировать, чтобы все было честь по чести. Мы положили чемодан на весы с длинной стрелкой, мы получили бирочку и посадочный талон, мы послонялись по залу ожидания, мы спланировали нашу дальнейшую судьбу, в то время как кто-то главный наверху уже дал распоряжение своей канцелярии, и машина завертелась – нас пустили по разным ведомствам. Должно быть, нам сочувствовали сверху, глядя, как мы договариваемся о встречах зимой, а потом еще летом, и еще, и еще… Они-то уж знали, что следующий наш день выпадет не скоро.
Мы едва успели договориться о письмах, когда объявили посадку. Ты поспешно поцеловала меня, и тут твое лицо разделилось на две половины. Одна из них смеялась, а другая плакала. Я впервые заметил, что у тебя разные глаза, но сказать об этом уже не было времени.
Первое письмо я написал тебе на следующий день в том южном городе, на почте, где чернила сгустились от жары и засыхали на кончике сломанного пера, царапавшего бумагу, точно душу. Чернильница зеленела выпуклым изумрудным глазком, который я то и дело протыкал пером, но глазок непоколебимо восстанавливался и смотрел на меня немигающим застывшим взглядом. Буквы получались толстыми, изумрудно-фиолетовыми, неживыми. Из них строились слова, удивлявшие меня своей непохожестью на то, что они должны были выразить.
Письмо упало в почтовый ящик тихо и кратко, будто кто-то произнес шепотом твое имя.
Окошки «до востребования», которые существуют во всех почтовых отделениях, хранят множество тайн. Там, над кассой букв и слогов, точно прилежные первоклашки, сидят девушки-хранительницы или хранительницы-старухи, которые долго изучают паспорта, переспрашивая для верности фамилию, а потом склоняются над кассой и вынимают стопку писем. Они раскладывают их, как колоду карт, словно вот сейчас нагадают тебе перемену судьбы, – пока из-под пальцев не выпорхнет письмо с маленькой тайной, а остальные тайны спрячутся обратно в кассовый ящик.
Вот женщина отошла от окошечка и украдкой оглянулась. Потом острым ногтем мизинца она вскрыла письмо и, отойдя к окну, стала читать, читать, читать – прочитала до конца и начала сначала, и только во второй раз стала что-то понимать, а до этого слушала чей-то голос, ничего не соображая.
Вот мужчина получил сразу три письма и спрятал их в карман таким самоуверенным жестом, что мне стало жаль тех слов, которые ждут его взгляда.
Вот девушка с полуоткрытым ртом, как бы помогая хранительнице перебирать письма, заглянула в окошко, но пачка растаяла без остатки, и девушка осталась ни с чем. Она покраснела и извинилась, а потом отошла на цыпочках и спиною вперед. А та счастливица, что перечитывала письмо десять раз, уже строчит ответ, припав к измазанному чернилами широкому столу, и лицо у нее улетело далеко, к Черному морю, где минувшим летом она пережила стремительную, как вальс, отпускную любовь, и теперь, мучаясь собственной неверностью, тайком от мужа она прибегает на почту после работы и растрачивает там свою позднюю и неиспользованную нежность.
Наверное, ты помнишь эти сцены, потому что у тебя тоже было такое окошечко в твоем городе и оттуда тоже вылетали мои письма. Наш вчерашний день сменился осенью, и опавших листьев было так же много, как писем. Я написал тебе все слова, которых, не сказал во время нашей встречи, я изобрел новые слова, и тоже написал их – из них сами собою получились стихи, – а когда пришла зима, выяснилось, что слова кончились, и я стал повторять их, как стертая граммофонная пластинка: я хочу тебя видеть, я хочу быть с тобой, я хочу тебя видеть, я хочу быть с тобой…
Утомительное однообразие моего рефрена, вероятно, удручало тебя. Твои письма становились все сдержанней. Приближался январь, когда ты должна была приехать в академию сдавать экзамены за первый семестр. Новогодний праздник прошел незаметно, не считая стихотворного прощания со старым годом, которое я послал тебе. Я помню его до сих пор.
«Давай простимся со старым годом и примиримся с его уходом. И дождь, и листья давай забудем и убиваться по ним не будем. Давай простимся с тем днем печальным, таким далеким, таким случайным! С тем днем, в который не возвратимся, давай простимся, давай простимся!»
Больше ты мне не писала.
Вчера я еще слишком плохо знал женщин, чтобы понять причину твоего внезапно наступившего молчания. Только потом, в последующие восемь лет, я кое-что понял и узнал. В частности, выяснилось, что поступки женщин, особенно в любовных делах, никогда не являются результатом длительного размышления. Они так же необъяснимы, как законы тяготения, и точно так же безошибочны. Возлюбленная ведет себя подобно небесному телу и может превратиться то в падающую звезду, вспыхивающую пламенем любви, то в холодную комету, улетающую черт знает куда, в глубины космоса.
Объяснить своей траектории она не может…
Я догадывалась, что они переписываются. Я даже могла определить, когда Алик получал очередное письмо. Он становился грустным, рассеянным и часто смотрел в окно, будто хотел там кого-то увидеть. Я по-прежнему не упоминала об этой истории и ни разу не заглянула в письма, хотя Алик был довольно небрежен и плохо скрывал тайну. Порой мне попадались полосатенькие авиаконверты.
Уже зима наступила, приближался Новый год, а улучшения не наступало. Я купила елку и нарядила ее с дочкой. К нам пришли друзья и привели своих детей. Алик был Дедом Морозом. Он очень весело играл свою роль, танцевал с детьми и дарил им подарки. Наверное, никто, кроме меня, не заметил, что с нами была половинка Алика, а может быть и меньше. Только я замечала, как вдруг мгновенно менялось его лицо в те моменты, когда дети отпускали его. Улыбка слетала, а на лице появлялось равнодушно-усталое выражение.
Я понимала, что ему трудно веселиться. Но и мне было нелегко.
Новый год – это всегда какой-то рубеж. Всегда надеешься, что после его встречи все станет по-другому. Вот и я ждала, что у Алика наступит выздоровление. Я уже давно относилась к этому как к болезни.
Но в январе стало еще хуже. Алик стал беспокойным и раздражительным. Домой приходил поздно. Терпеть мне становилось все труднее, но я терпела и все еще искала выхода. Я стала размышлять, почему с ним произошла перемена. Может быть, она снова приехала, и они увиделись? Конечно! Ведь она поступала в академию, кажется, на заочный искусствоведческий… Я не знала, поступила ли она, но если поступила, то в январе у них сессия. Странно, что я не подумала об этом раньше.
Мне стало все ясно, и мое терпение как рукой сняло. Напрасно я уговаривала себя успокоиться. Я не находила себе места. Одна мысль, что вот сейчас они встречаются, вызывала во мне бешеную ненависть. После приступа злости и тоски были слезы. Я высохла за две недели и почернела. Но я ничего не говорила Алику. Когда он приходил, я пряталась в кухне, чтобы не видеть его лица. Я боялась его увидеть. Мне казалось, что я прочитаю на его лице все.
Так продолжалось почти месяц. Положение стало невыносимым. Я уже думала за трех человек сразу: за себя, за Алика и за нее. Я решала задачу с тремя неизвестными, потому что я тоже была неизвестной. Я не знала, что могу выкинуть в таком состоянии.
За нее я думала так. Она сдала сессию, сейчас у нее каникулы. Почему бы не провести их с Аликом? За это время она сможет убедиться в его чувствах. Она поверит ему, потому что это у него по-настоящему. И она поймет, что с нею он будет счастлив.