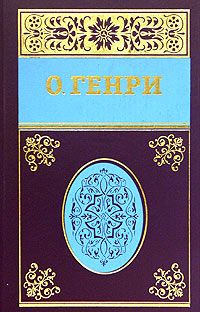Борис Липатов - Блеф

Обзор книги Борис Липатов - Блеф
Рис Уильки ЛИ
БЛЕФ
Поддельный роман
Неувядаемому имени Уильяма-Сиднея Портера (О'Генри) в память дней, недель, месяцев и лет совместной несвободы — иначе срочного тюремного заключения — почтительно посвящает автор.
San-Francisco, 1818, Sutter-Street.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Летом двадцать второго года мне пришлось быть в Довиле.
Самое дорогое и нелепое место на земле. Там становятся неощутимыми ценности и целесообразности. В этот уголок заносит людей с пустыми от скуки глазами и перенасыщенными чековыми книжками.
В Довиле они полируют кровь. Встречаются равные. На шуршащем песке огромные питоны меняют кожу. По-видимому, их это оживляет. В казино, ломая тоской и зевотой челюсти, питоны встречаются в получасовых стычках. Медлительное курортное мышление; ощущение первичного вкуса какой-то мельчайшей осязаемой частицы — миллиона франков. Унылый росчерк на уголке чека: три миллиона. Карту. Это вы сказали: карту? Унылые руки тянутся к кусочкам картона. Зевота. Рот закрыт картами. Проигрыш. Не всё ли равно чей! Поверьте, ни банкомёт, ни партнёр этого не ощутили. Так развлекаются самые богатые, самые грустные люди на земле.
Им тяжело. Вот один безнадёжно богатый человек. Ну, он сшил 10 костюмов, 20 костюмов, больше не придумать случаев, когда их можно надеть. 20 пар обуви, носки, галстухи, шляпы. Яхта. Хорошо, — по яхте на каждый океан. Даже на ледовитые. Загородный дом. Пять автомобилей. Дальше идёт мучительство фантазии и скука. И он знает, что он прежде всего богатый человек, и для других он очень богатый человек, что о нём прежде всего так и думают, и думают о нём прежде всего так. В результате — в глазах полынь.
Я сижу в парке и читаю письмо из России. От Бориса Наседкина из Кундравинской станицы. Интересное письмо: «…Два года назад я заведывал Отделом искусств, а до того был базарным смотрителем. Голодали мы здорово. На наше счастье поставили у вокзала статую Карла Маркса, а так как каррарского мрамора у нас нет, то Маркса поставили простенького, соснового. Мы в Отделе сразу сообразили, что с Марксом можно жить, и взяли его под охрану. Дожди всякие, непогода. Маркс съёжился, потрескался. Мы в исполком: так и так, вверенный нам Маркс грозит саморазрушением, пожалуйте олифу на предмет консервации предмета искусства и революционного энтузиазма. Сами знаем, что в городе олифы нет, ну и дают нам бидон постного масла. Раз шесть пришлось охранять старика. Подкормились!»
Всё письмо в таком роде. Дьявольски беззаботное. Мне становится сразу не по себе, здесь, в Довильском парке. Люди с полынью на лицах отвратительны, как зубная боль. Ах, письма, письма!
— Я знаю этого человека, — вдруг сказал кто-то подле меня.
Я поворачиваю голову: рядом, на скамье сидит незнакомец и вертит в руках конверт от письма Бориса Наседкина. Я поджимаю губы и выжидательно поглядываю на соседа.
Он слегка сдвигает канотье на затылок и мягко улыбается. И я сразу вижу настоящего человека. Мне становится бесконечно отраден его не совсем безукоризненный костюм, растопыренные книгами карманы, йодные пятна на местах бритвенных порезов. Ясно, ему всюду удобно и хорошо.
— Ну, вот, — говорит он таким тоном, точно и на самом деле: «ну, вот». Конечно, мы немедленно здороваемся. — Моё имя Ли. Рис Уильки Ли. Я знаю мистера Бориса. Я заметил его невыразимый почерк и не удержался, чтобы…
Потом он рассказывает, как был в девятнадцатом году в Сибири, работал в Вильсоновской комиссии, отвозил чехов на родину и сейчас болтается в Европе, пока не выйдут все доллары, за которыми надо будет ехать на родину. В Сибири встретил Бориса и т. д.
Итак, я пишу предисловие к книге мбего случайного знакомца. В этом не кроется какое-либо открытие новых литературных форм, неизведанных творческих пампасов, это только предупреждение: сейчас в литературную дверь войдёт забавный человек, познакомьтесь, честное слово забавный человек этот Рис Уильки Ли…
Мы сидели на веранде и пили кофе; мой американец весьма терпимо путешествовал по русскому языку — разговор не был обременителен, человек прыгал, как кузнечик, по своему прошлому и кончил тем, что объявил о своём желании написать роман.
Я взглянул на его проседь и почувствовал досаду. Ужасно неприятен человек, потерпевший, как видно, жестокую неудачу в своих прошлых начинаниях и теперь намеревающийся попробовать себя в литературе. Но мистер Ли чистосердечно спрашивает меня, как собственно делаются романы, — может, не стоит и приниматься, кроме того, он не выбрал ещё, писать ли роман или заняться приготовлениями пуговиц из человеческих отбросов?..
Я вздохнул свободнее. Передо мной сидел старый ребёнок. Во всяком случае это не был опасный случай графомании.
Через восемь чашек кофе он начал развивать передо мной проект постройки пуговичных фабрик при воинских казармах. Гигантский размах мысли мистера Ли добирался уже до концессий… При этом по лицу было видно, что он думает совершенно о другом. Мне стало ясно одно: мистер Ли ничему не верит и никогда не верил и его жизнь скрашена единственно неверием. Он выдумщик, переставляющий понятия и вещи и находящий в том высшее удовлетворение.
Мы расстались в тот же вечер и больше не встречались. И вдруг передо мной его книга. Ли остался верен себе. Выдумщик не дал жить художнику. Перед нами звонкий безудержный фельетон, и, чего нельзя не заметить, вещица с перцем.
Алексей Толстой.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Синдикат Холостяков
1. Натюрморт из декларации, кафе и русского эмигранта
Декларация:
Как жаль, что полисмены не умеют смотреть на жизнь глазами художников, а художники — глазами полисменов.
Но, в то же время, если бы так было, значительные события, которым посвящена эта книга и это доброкачественное начало, утратили бы весь смысл.
Наши симпатии обращены к нашей декларации, наши спины к палящим лучам солнца, наши каблуки вязнут в асфальте, густом и тягучем, как жевательная резина.
И в удушающей жаре пробковый шлем постового полисмена раскаляется как бессемеровская груша, в ушах гудит, в глазах встают картины, достойные кисти Марка Шагала.
Одинокий полисменовский ум, притуплённый высокой температурой, не в состоянии уловить пафоса и количества красной и белой краски, полосатой матрасной краски, годной для украшения улицы национальными флагами, о чём позаботился муниципалитет по случаю предвыборной кампании.
И в этой пестроте художнику — необозримое поле для действий, для высокого анализа. Художнику достаточно нескольких полос — белых и красных, прямых или скошенных, чтобы дать синтез спокойного неба с дисциплинированными рядами звёзд над национальными цветами, ночной покой мягкой полосатой перины или крутую упругость полосатого тента, протянутого над столиками кафе, расположенными прямо на тротуаре.
И ножки мраморных столиков, словно копыта буйволов на водопойной тропе, вязнут в размякшем асфальте…
Но довольно деклараций, довольно медлительности, довольно метафор, троп, архитектоник, амфибрахиев, калориметров и прочих принадлежностей несложного повествовательного ремесла. Солнце, линчёванное на подходящей высоте, ручается за дальнейшую лапидарность.
Кафе.
Под натянутым тентом паллиативная прохлада и невысокие цены. Негр бесшумно шмыгает среди беспиджачной массы посетителей. Плоскость подноса с кружками напитков в его руках виртуозно склоняется под самыми непостижимыми углами.
Негр бегает, разнося на подносе посуду, кексы и сдачу.
Иван Филиппович Сметанин, — был такой, а теперь, в условиях американской действительности и репортёрских заметок, им подписываемых, Джон Ковбоев, — закатав рукава сорочки до обильно смокших подмышек и роясь соломинкой в кусочках льда, плавающего в кофе, усиленно сочиняет очередную небылицу от «собственного корреспондента» из Москвы.
Знает, что редактор мистер Кудри, загнав консервы на сократовский лоб, перечитывая ковбоевскую сенсацию, вынет блокнот с заголовком: «Советские утки» и будет сверять стряпню:
1. Взрыв Кремля — печаталось 4 раза (тема использована).
2. Восстание в Москве — 8 раз (можно ещё 1 раз).
3. Восстание в Петрограде — печаталось 2 раза (?).
4. Восстание всероссийское — 6 раз (не имеет успеха).
Проверит — и пошлёт секретарю.
Напротив кафе — редакция. По фасаду вывеска с электрическими буквами «Нью-Таймс». Стрелка автоматических часов придирается к 12-ти… Ковбоев заторопился… В двенадцать у Кудри антракт интимного свойства, в 12.20 — интимный приём, — Реджи Хоммсворд, он — Ковбоев — и мисс, вернее мадемуазель, Ирена, стенографистка (глазки, пальчики, ножки… аф-ф!). Ковбоев даже перекусил соломинку и перечеркнул абзац, где было обстоятельно изложено, как Волга, выйдя из берегов, затопила Курскую губернию, население в панике, вспыхнуло восста… Тьфу!