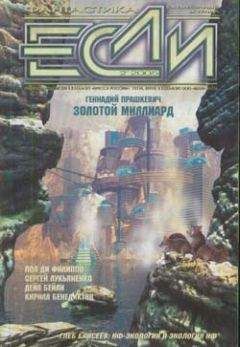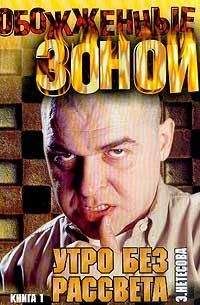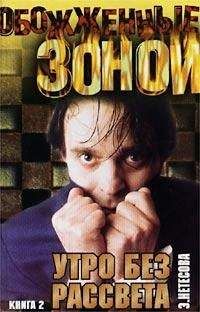Дейл Бейли - Смерть и право голоса
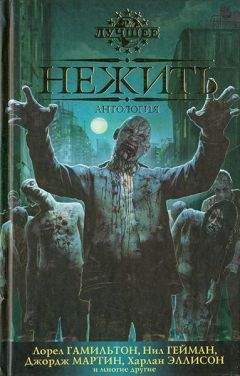
Обзор книги Дейл Бейли - Смерть и право голоса
Дейл Бейли
Смерть и право голоса
«Забавно, как устроен мир», — любил говорить мне Бертон. Вот занимаешься ты чем-то настолько мелочным, что зубы от скуки сводит, — подрезаешь ногти на ногах или, например, переворачиваешь диванные подушки в поисках пульта от телевизора, — а мир вокруг тебя меняется с каждой секундой. Ты чистишь перед зеркалом зубы, а на другой стороне планеты поднимается паводок. Каждый день, каждый миг наш мир преображается самым удивительным образом, а мы сидим в пробке, или гадаем, что приготовить на обед, или просто блаженно пялимся в окно. «Пока ты строишь планы, история идет вперед», — всегда говорил Бертон.
Теперь я это знаю. Думаю, теперь мы все это знаем.
Что касается меня, то, когда все началось, я был в Чикаго, на шестом этаже большого офисного здания, составлял резюме. Вокруг творился привычный хаос: разрывались телефоны, бегали люди, по телевизорам сообщали итоговые результаты голосования, — но во всем чувствовалась наигранность. Кампания закончилась. Наши аналитики сообщили нам все, что следовало знать: утром, когда открылись избирательные участки, Стоддард лидировал на семнадцать пунктов. И вот я сидел в предвкушении увольнения, закинув ноги на взятый в аренду стол и придерживая на коленях ноутбук, и ломал голову над синонимами к слову «руководил». Например, «руководил коллективом из пятнадцати человек». Или «руководил связями с общественностью Демократического национального комитета». Или, например, «руководил политической кампанией и доруководился до ручки».
Тут по Си-эн-эн заиграла короткая увертюра, которая означала, что где-то творится история, точь-в-точь как любил говорить Бертон.
Льюис выключил телевизор, и я поднял голову.
— Ну и зачем ты это сделал?
В ответ он перегнулся через стол и выключил мой компьютер.
— Сейчас покажу.
Я последовал за ним через офис, мимо сгрудившихся перед телевизорами людей. Никто не повернул в мою сторону головы. Никто не смотрел мне в глаза с воскресенья. Я попытался прислушаться к передаче, но поверх возбужденного гомона до меня доносились лишь обрывки репортажей с места. Бертона я тоже не заметил — он, скорее всего, заперся где-нибудь и писал поздравительную речь своему сопернику. «Какой смысл откладывать неизбежное», — сказал он мне утром.
— И чего ты хочешь? — спросил я Льюиса, когда мы вышли в коридор, но он только покачал головой.
Льюис — крупный мужчина, ему около пятидесяти, и у него сутулые плечи и выражение лица как у пристыженного подростка. Он стоял в лифте и смотрел на мигающие огоньки, потирая оставшуюся от угревой сыпи оспину. Оспин у него много, они покрывают все лицо, как напоминание о худшем в истории человечества пубертатном периоде. Он мне никогда не нравился, а в данный момент особенно, но даже я не мог не восхищаться светящимся в его глазах умом. Стань Бертон президентом, Льюис хорошо бы ему послужил. Теперь же ему тоже придется искать работу.
Двери лифта открылись, и Льюис вывел меня из вестибюля в типичное ноябрьское утро в Чикаго: с озера дул кусачий, будто пересыпанный алмазной крошкой, ветер, а с потрепанного неба сыпало нечто, что никак не могло определиться, чем оно хочет стать в жизни — снегом или дождем. Я вырос в Южной Калифорнии (меня растили дедушка с бабушкой) и больше всего на свете ненавижу чикагскую погоду; но тем утром я стоял на улице в рубашке с закатанными по локоть рукавами, мой галстук развевался на ветру, а я ничего не чувствовал.
— Боже мой, — произнес я, и на мгновение все мои мысли остановились. Я мог думать только о том, что всего два часа назад стоял на том же самом месте и смотрел, как Бертон обрабатывает толпу, а мир еще не сошел с ума.
Потом Бертон дошел до участка, чтобы отдать свой голос, а когда он вышел из кабинки, его ждали репортеры. Бертон, политик до мозга костей даже после поражения, их очаровал. Нас могли ожидать великие дела.
Но даже тогда мир еще не сошел с ума.
Зато теперь он спятил по полной программе.
Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что происходит; мимо с выпученными глазами проталкивались прохожие, перед гостиницей на углу застыл с раскрытым ртом посыльный. Выше по улице столкнулись три таксиста, из сцепившихся машин валил пар, а в конце квартала выброшенным на берег морским чудовищем возвышался перевернутый автобус. Где-то немузыкально кричала женщина — снова, и снова, и снова, перемежая крики стаккато сдавленных всхлипов. Вдали завывали сирены. Телевизионная группа снимала без остановки, и впервые с того момента, как я продул шанс Бертона занять самый высокий пост страны, ни один журналист не совал мне в лицо микрофон и не спрашивал, что на меня нашло.
Но я был слишком поражен, чтобы наслаждаться неожиданным подарком судьбы.
Мы Льюисом не отрывали глаз от избирательного участка. Там собралось полтора или два десятка мертвецов, и все время прибывали новые. Даже тогда у меня не возникло сомнения, что все они мертвы. Это становилось очевидным по осанке — деревянной, как у марионеток; по шаркающей походке и нездоровому, призрачному блеску в глазах. Очевидно по зияющим из разрезов кольцам внутренностей, по случайной наготе и неожиданной одежде: больничным халатам, залитым кровью джинсам и безупречным костюмам из только что открытых гробов. По темным пятнам разложения, что цвели на их телах. Очевидно с первого взгляда, что они мертвы. Происходящее давало фору любому фильму о зомби, который вам доводилось видеть.
По моим рукам побежали мурашки, но вовсе не от дующего с озера Мичиган ветра.
— Бог ты мой, — произнес я, когда сумел наконец заговорить. — И чего они хотят?
— Голосовать, — ответил Льюис.
* * *«На выборах в Чикаго мертвые голосовали задолго до того, как Ричард Дейли стал мэром, — написал один остряк в утреннем выпуске „Трибьюн“ на следующий день, — но вчерашние события придали этой традиции совершенно новый смысл».
Да уж.
Мертвые проголосовали, и не только в Чикаго. В каждом избирательном округе страны они вставали с больничных носилок и полок в морге, из открытых гробов и с бальзамировочных столов, и в большинстве случаев им удалось отдать свой голос без помех. Да и кто мог их остановить?
Большая часть работников избирательных участков бежала с корабля, стоило первым зомби проковылять в двери, но даже те, кто остался на посту, предпочитали не вмешиваться. Мертвецы никому не угрожали — если подумать, они не делали ничего зловещего, чего можно было бы ожидать от мертвецов. Но многих людей нервировал их непроницаемый взгляд. Проще дать им проголосовать, чем терпеть на себе знающий блеск этих странных глаз.
А когда голоса подсчитали, мы узнали еще кое-что — они проголосовали за Бертона. Все как один проголосовали за Бертона.
* * *— Это твоя вина, — сказал на следующий день за завтраком Льюис.
Я видел, что с ним согласны все до единого, весь старший руководящий персонал, измотанный и невыспавшийся. Пока Льюис произносил свою тираду, они пристально изучали содержимое своих тарелок, поверхность стола для совещаний или лихорадочно записывали что-то в ежедневники. Что угодно, лишь бы не смотреть мне в глаза. Даже Бертон, который сидел в одиночестве во главе стола, жевал бублик и смотрел без звука репортаж Си-эн-эн, где ковыляли по своим непостижимым делам зомби. Ближе к рассвету, когда из восточных штатов поступили последние подсчеты, толпы мертвецов стали подтягиваться к кладбищам. Зачем, пока что не знал никто.
— Моя вина? — переспросил я, но возмущение получилось наигранным.
В пять утра, когда я проснулся от кошмара в темном гостиничном номере, я пришел к тому же выводу, что и все остальные сидящие за столом.
— То чертово ток-шоу, — заявил Льюис, будто это все объясняло.
Вполне возможно, что так оно и было.
Чертово ток-шоу называлось «Перекрестный огонь», и я попал на него в последнее воскресенье перед выборами. Я нарушил первую заповедь политика — заповедь, которую я безжалостно вбивал в окружающих в течение последнего года. Не отклоняться от основной мысли, придерживаться тезисов.
Не говори от сердца своего.
Причиной этой дилетантской ошибки послужила шестилетняя девочка по имени Дана Макгвайр. За три дня до моего выступления в эфире пятилетний мальчик застрелил Дану после занятий в школьном кружке. Он нашел пистолет в прикроватной тумбочке своего отца и, как раз когда мать Даны входила в школу, чтобы забрать дочь, вытащил оружие из своей сумки с полдником и выстрелил девочке в шею. Дана умерла на руках у матери, а мальчишка рыдал рядом.
Обычный американский денек, только что-то оборвалось у меня в груди, когда я впервые увидел фотографию Даны в новостях. Я помню тот момент как сейчас: в окна гостиницы падает тусклый октябрьский свет, тихо бормочет телевизор, а я разговариваю по телефону со своей калифорнийской бабушкой. У меня мало родственников. У меня есть дядя со стороны отца, но после смерти родителей мы постепенно перестали видеться, и меня воспитывали родители матери. Дед умер пять лет назад, так что мы остались вдвоем, и даже в разгар предвыборной кампании я старался звонить бабушке каждый день. По большей части она болтает о знакомых стариках — длинный перечень имен и недугов, которые я и в хороший день с трудом могу удержать в голове. А в тот полдень, вполглаза посматривая, как бойкий, накачанный ведущий с Си-эн-эн ведет репортаж у фасада школы, я совсем потерял нить разговора.