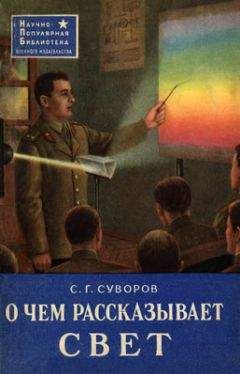Вячеслав Рыбаков - Человек напротив
– По-моему, у меня белая горячка, – проговорил Листровой. Симагин улыбнулся и отрицательно покачал головой. Потом, ни слова не говоря, выставил над Листровым защитный кокон. На всякий пожарный.
Не подозревая об этом, Листровой снова закурил, когда явившийся по его вызову охранник вывел подозреваемого из кабинета, и подумал: как ни крути, а быть того не может, чтоб сверхчеловек хоть третьим, хоть пятым пунктом программы к бабе своей Савской вечерком не явился, или хотя бы не повстречался с ней. И почти что не может того быть, чтоб он не заглянул домой. Туда, где сперва наши ребята, а потом этот безопасный красавец так бездарно рылись, но наверняка именно то, что могло бы представлять интерес, проморгали. Выставить бы посты наблюдения у квартиры женщины Аси и у его квартиры… да не на улице, а прямо при дверях как-нибудь, у соседей через лестничную площадку… а лучше даже внутри, мало ли как он будет внутрь попадать… Не знаю для чего – просто чтобы понять, что он может и чего хочет. А зачем мне это понимать? Может, не моего ума это дело? А кто определяет, моего или не моего? Я сам и определяю. Раз мой ум этим интересуется – стало быть, это моего ума дело. Другой вопрос, как я воспользуюсь знанием, если и впрямь узнаю, что он может и чего хочет… ну да это – потом. В зависимости от того, что именно я узнаю, сей вопрос и будет решаться.
Или я ввязываюсь сейчас в игру, где ставками служат такие ценности, такие величины, которых я даже представить себе не в состоянии? Нет, не так – плевать мне на ценности и величины; если они действительно существуют, уж как-нибудь я их себе представлю, не пальцем делан, и смогу, сумею оценить их, если увижу своими глазами… но просто-напросто при таких ценностях и человеческие жизни то и дело отлетают вправо-влево переломанные, как спички у меня отлетали полчаса назад… Может, и впрямь не лезть? Что называется, не выеживаться – целее буду?
Кто же он такой? И насколько мне врет? Голова идет кругом… пытаюсь я мыслить своими привычными категориями – выяснения, посты, обыски… а на самом-то деле…
Да я именно и пытаюсь понять, что на самом-то деле происходит! И не хочу бросать на полдороге! А то ведь театр какой-то получается! Встреча постового с Сатаной…
Огорошил он меня. Ошеломил. Если пытаться анализировать его высказывания всерьез, получается, что он в курсе всего, чем я занимался вчера, о чем и с кем говорил, и в курсе еще многого, о чем я даже не знаю, но что с происходящим явственно связано. Четыре поражения. Девчонка, писатель, а еще два? На какие-то проблемы Бероева намекал… Черт, так воры в законе из любого лагеря ухитряются управлять своими бандами! Но этот на вора в законе, прямо скажем, не тянет… Мягонько так предупредил меня, что собрался свалить отсюда, и еще извинился за могущие у меня возникнуть в связи с этим неприятности. Ну, дела!
И что же? Молиться мне теперь за это на него, да?
Нет, погоди, сказал себе Листровой. Два вопроса возникают основных: как он качает снаружи информацию и как он собирается наружу сводить. Либо у него завелись прямо у меня под носом какие-то великолепные каналы – но что ж это за каналы должны быть! это ж он, считай, купил уже весь изолятор, только мне почему-то ничего не предложил, а предпочел пыль в глаза пускать: дескать, супермен я!.. либо он… кто? Получается, действительно нехилые он в своей лаборатории сбацал себе способности, и прав кагэбэшник, что его ловит из последних сил!
Разобраться! Разобраться!
А ведь он мне поверил…
Если только не сделал из меня полного дурака.
Поверил. Предупредил. А я вот собираюсь его… предать? Получается так.
Листровой медленно курил и не спешил ни тянуться к телефону, ни отворять разбухшую, как покойник-утопленник, папку с делом.
Обыск в доме родителей Симагина продолжался, и не видать ему было конца.
Минуты не прошло после того, как Симагина вернули в его каземат, когда волосы его легонько перебрал короткий порыв невесть откуда взявшегося ветра. Симагин поднял голову.
Давешний ночной гость его, одетый теперь уже не по-домашнему, а будто в насмешку – словно с дипломатического приема на минутку забежал, присел напротив Симагина на краешек того, что здесь называлось столом, скрестил руки на груди и с веселой издевкой в прекрасных черных глазах смотрел сверху вниз. От него легко и пряно пахло то ли заморским одеколоном, то ли просто южными цветами, раскрывшими тяжелые бутоны в томном ночном саду, под ослепительными звездами; и зыбко, нежно перезваниваются цикады…
– Эк они тебя, – сказал он.
Симагин не ответил.
– Больно? – сочувственно спросил гость, но губы его подрагивали от едва сдерживаемого смеха.
Симагин не ответил.
Гость голосом Жеглова свирепо спросил, не скрывая веселья:
– Ты еще не угомонился?
Симагин не ответил.
– Я так понял, ты что-то измыслил? Насчет времени? Тотальную инверсию будешь пробовать?
В его голосе буквально слышалось: "А я догадался! Я тебя расколол!"
Симагин не ответил.
– Ну-ну, попробуй. Увидишь, чем это кончится.
Симагин не ответил.
Гость немного подождал. Потом картинно потянулся, демонстрируя сладкое удовлетворение, и сказал:
– Как все-таки приятно убивать порядочных людей. Почти никакого риска. Доставляешь всем исключительно горе. Уже сутки с лишним прошли, а ни малейших нежелательных для меня последствий не обнаружилось. и даже намека нет, что они возникнут. А приятных последствий – вагон. Вот мерзавца какого-нибудь попробуй тронь – такой позитивный веер раскидывается сразу, что и заболеть можно… А тут – красота! Писатель твой – не подарок, конечно, личность мятущаяся, сложная, от таких лучше подальше держаться, а то ненароком во время поисков идеала наступит, раздавит и не заметит… но не подлец, не мерзавец, не убийца. Ну а девочка – та вообще святая. Влюблена была в тебя-а… – смакующе протянул он и даже глаза на миг прикрыл, словно рекламирующий свои блюда повар. – Твое чистоплюйское нежелание напрямую залезать людям в мысли все время играет с тобой дурные шутки. Сначала Асю проворонил, теперь Кирочку… А знаешь, я ей тебя показал. Ох, и удивилась она, увидев, как ты без штанов, тряся хозяйством, прибежал к ней из кухни, угрожающе захрипел: "Не открывай дверь!", а потом полез на нее! – Гость коротко, жизнерадостно захохотал. – И знаешь, раздеваться-то она, поняв твои очевидные намерения, сама начала, и только спрашивала дрожащим таким голосочечком: "А вы меня правда любите, Андрей Андреевич? Вы меня правда хоть немножко любите?"
Верить нельзя было ни единому его слову. Но и правдой все это оказаться могло.
– Потом, сознаюсь, ей стало не до любви. Один раз даже выкрикнула: "Ну не надо же так грубо, пожалуйста!" Все еще пыталась с тобой как-то контакт наладить… А потом уж без слов кричала, до хрипоты… хотя… забавно, только сейчас я сообразил… все равно ни одного ругательного слова в твой адрес не высказала. М-да. Любят девки, когда их насилуют, любят… А как стал ты ее ножиком ковырять – совсем обалдела.
Симагин не ответил. Гость еще немного подождал.
– Энергию, как я понял, ты себе все-таки отыскал… на досуге. – Он выразительно обвел камеру взглядом и опять насмешливо уставился на Симагина. – Я попробовал притушить твои звездочки, но ты их уже заэкранировал заблаговременно. Молодец. Предусмотрительный. Так, глядишь и впрямь научу тебя драться. На свою голову.
– Не исключено, – уронил Симагин.
– О! Великий немой заговорил! Тогда, извини, могу тебя обрадовать, что ты совершенно напрасно тратишь силы на защиту Листрового. Он не твой человек. Он тебе поддакнул, сделал вид, будто рассиропился и отпустил тебя – а сам сидит сейчас и прикидывает, как получше расставить посты, чтобы подловить тебя сегодня у Аси.
– Мы живем не столько в мире событий и поступков, – сказал Симагин, – сколько в мире их интерпретаций нашим сознанием. Для формирования поведения человека то, что он думает по поводу того или иного события, более важно, чем то, что это событие на самом деле собой представляет. В одном и том же поступке ты видишь одно, а я – другое, и с этим ничего нельзя поделать. Чтобы я увидел так, как видишь ты, мне нужно перестать быть собой и стать тобой. Ты мне, кажется, это уже предлагал недавно, и мне не понравилось. Стоит ли сызнова это мусолить?
– О-о, – разочарованно сказал гость, – опять проповедь.
– Нет, – ответил Симагин, – просто понимание. Почти каждый поступок человека столь же многозначен и многослоен, сколь и сам человек, в нем содержатся самые разные семена. Какое именно взойдет – не в последнюочередь зависит от того, что в поступке увидели окружающие. Увидели подлость – и сам человек ощутит привкус подлости, и дальше все пойдет по одному сценарию. Увидят подвиг – и сам человек почувствует привкус подвига, и все пойдет уже по-иному. Один и тот же поступок будет иметь совершенно разные последствия – в том числе и для внутреннего мира человека, который этот поступок совершил.