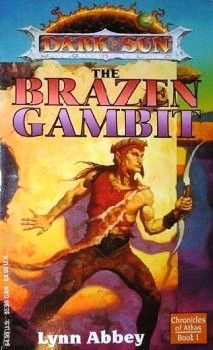Владимир Аренев - Правила игры
– Хорошо, – кивнул Обхад. – Ступай на конюшню, скажи, чтобы седлали двух коней. И еще двух – сменных. Да пускай поторопятся.
Слуга вышел, а воин подхватил оба мешка и в последний раз оглядел комнату. Всем им, офицерам, состоявшим на службе у Пресветлого, полагалось иметь такую вот не слишком просторную, но в общем удобную комнату во дворце. На всякий случай.
Своими дворцовыми апартаментами Обхад пользовался редко, предпочитая снимать комнату неподалеку отсюда, но в городе. Поэтому и было здесь так неуютно. (Ну, может, не только поэтому, а и потому, что ты до сих пор не остепенился и не завел семьи, старина) Тем не менее иногда и от этой комнаты была польза – вот как сегодня, например.
Обхад вернулся из своего неоконченного отпуска, как только слухи о грядущей войне докатились до северной провинции, в которой он отдыхал. Старый тысячник не стал дожидаться официального вызова, понимая, что на счету может быть каждая минута. Поэтому и появился во дворце раньше других; поэтому почти не распаковывал дорожных мешков; поэтому и получил интересное задание, приступить к выполнению которого Обхаду не терпелось. Какой-нибудь тепленький полусонный горожанин, узнай о подобном рвении, заявил бы: «Идиотизм», – и по-своему был бы прав. Но для тысячника существовала своя истина, отличная от запыленных истин коренных горожан; она заключалась в том, чтобы жить, шагая по лезвию клинка, – лишь в такой жизни Обхад и видел смысл. И он знал, что, когда попадет к Ув-Дайгрэйсу, попросит только об одном – чтобы тот снова отпустил его на землю. «Спасибо тебе, Бог Войны, за милость, но позволь еще раз испытать упоение риском». Тысячнику казалось, что Ув-Дайгрэйс поймет его.
Перевалило за полночь – отличное время для того, чтобы отправиться в дорогу. Тракт безлюден, и никто не станет путаться под ногами. Осталось только заехать за этим жрецом и – на юг.
Обхад искренне надеялся, что навязанный ему спутник не станет обузой в пути.
В конюшнях все уже было готово – садись да поезжай. Он вскочил в седло, принял в руки поводья остальных трех коней и направил скакуна к выходу.
Конюшие смотрели ему вслед и понимающе переглядывались: время сейчас сложное, так что нет ничего удивительного в том, что господин тысячник отправляется в дорогу на ночь глядя. В последние несколько дней такое происходило очень часто.
Обхада без лишних расспросов выпустили из дворца, и вот уже темные улочки Гардгэна приняли его в свои объятия и каменные дома принялись задумчиво поигрывать эхом от конских копыт.
В храмовом районе стонали флейты и скорбно рокотали барабаны. Торжественные похороны... вот только чьи?
Тысячник въехал на улицу Церемоний, запруженную людьми от начала до далекого, не видного отсюда конца; приостановил коня и присмотрелся.
Поблескивал в лунном свете черный булыжник мостовой; кругом были люди, много людей. В основном – служители различных культов, одетые сегодня непривычно ярко и роскошно, с венками, ритуальными музыкальными инструментами, с сосредоточенными лицами и печальными глазами.
Обхад спешился и пошел сквозь толпу, прижимаясь к стенам храмов, поскольку посередине улицы передвигаться было невозможно. Но даже и здесь, на краю потока, тысячника несколько раз задерживала тугая сила людской толпы. Приходилось останавливаться и пережидать.
Во время одной такой вынужденной остановки он стал невольным свидетелем разговора – даже не всего разговора, а только части. Разговор показался ему любопытным, пускай и не настолько, чтобы задерживаться и дослушивать его до конца.
Говорили двое. Один – низкорослый немолодой мужчина с седой бородой и с необычайно светлыми голубыми глазами, другой – сухощавый старик в дорогом халате, все время потиравший руки. Кости у него ломит, что ли?
– Да, – кивал голубоглазый – Тебе не соврали. В голосе говорившего Обхаду почудилось плохо скрываемое презрение к собеседнику. Старик покачал головой:
– Жаль. Он был одним из немногих, кого я не считал своим врагом.
– Это не было взаимным. – Голос голубоглазого стал холоднее, а взгляд – жестче. – Мне говорили, что ты не появишься в Гардгэне. Тебя ведь предупреждали.
– Сегодня такая ночь... – Старик неопределенно пожал плечами и потер руки. – Вне всякого сомнения, я не появлюсь в Гардгэне в ближайшее... время. Но сегодня я захотел приехать – и приехал. Спустишь на меня своих храмовых псов?
– Ты же знаешь, что нет. У тебя есть право на то, чтобы проститься с ним. – Голубоглазый помолчал, а потом произнес, скорее для самого себя, чем для своего собеседника: – Странные времена. Никак не могу поверить, что он на самом деле умер.
– Что? – встрепенулся старик. – Что ты сказал?
– А ты не знал? – удивился голубоглазый. – Он умер. Да-да, именно в том смысле, который вкладывают в это слово...
Толпа расступилась перед Обхадом, и он поспешно втиснулся в освободившееся пространство, так и не дослушав чужой беседы до конца.
Еще некоторое время он продирался сквозь людской поток, но в конце концов все-таки попал туда, куда стремился, – перед тысячником стоял храм Ув-Дайгрэйса. Обхад въехал на задний двор и привязал там коней, чтобы их никто не спугнул (красть здесь считалось тягчайшим преступлением, а вот испугаться нечаянных резких движений и громких звуков животные могли). Потом поднялся по ступенькам и – остановившись на мгновение, чтобы преисполниться необходимым внутренним состоянием, – вошел в храм.
Обхад бывал здесь неоднократно, поскольку, как и положено воину, почитал Бога Войны более других Божеств. Но всегда, стоило ему только ступить под своды храма, откуда-то из теней появлялся какой-нибудь младший жрец и произносил ритуальную фразу приветствия. На сей же раз Обхада встретили только тишина с пустотой – больше никого.
Он постоял на пороге, удивленный таким небрежением к традициям, а потом направился к алтарю. Тысячник знал, что где-то рядом должен находиться проход в коридор, который ведет в помещения для жрецов. Время подгоняло, и Обхад готов был нарушить уединение служителей Бога для того, чтобы поскорее выехать из города. Ув-Дайгрэйс простит, а нет – что же, это его, Обхада, выбор...
Когда он приблизился к алтарю, с улицы кто-то зашел, заслоняя собой пляшущий свет факелов и фонарей.
– Вы что-то ищете, господин? – поинтересовался вежливый голос.
– Да, – кивнул, оборачиваясь, Обхад. – Я от господина Ар-махога. Ваш верховный жрец...
– Понимаю, вы тот, кто едет на перевал, – сказал вошедший. – Простите, что заставил вас ждать. Кони готовы?
– Готовы.
– В таком случае поспешим. – Человек знаком пригласил Обхада к выходу. – Тиелиг просил, чтобы мы не задерживались.
Тысячник и жрец направились туда, где были оставлены животные.
Когда они вышли на улицу, с небес, неожиданно и свирепо, обрушился ливень. Торжественная процессия замерла, словно падающая с неба вода была знамением... впрочем, как знать.
Обхад поднял голову и фыркнул, стряхивая с усов дождинки. Его спутник натянул на голову капюшон и выжидающе посмотрел на тысячника. Они свернули за угол и подошли к коням.
Уже вскакивая в седло, Обхад вспомнил, что до сих пор не знает имени своего спутника.
– Как мне вас звать?
– Джулах, – донеслось из-под капюшона.
Тысячник кивнул и развернул коня к выезду на улицу Церемоний. Им предстояло сегодня одолеть большое расстояние, и оставалось лишь надеяться на выносливость жреца. Кажется, этот выдержит.
/свечение гнилушек на кладбищенских могилах, вырванное из темноты – смещение/
У Ханха сделали остановку. Будь на то воля Талигхилла, он гнал бы людей и животных дальше, но следовало вымыть взятых на рудниках Братьев; к тому же Ханх – не разлившийся по весне ручеек, на переправу нужно время. Вынужденная задержка грозила затянуться минимум на полдня – невеселая перспектива. Талигхилл послал своего нынешнего старэгха Шэддаля на противоположный берег, а сам остался на этом, чтобы следить за переправой.
Сжигаемый изнутри желанием действовать, Пресветлый взобрался на коня и направил его на холм, с которого открывался вид на мост и большую часть войска.
«Чуден Ханх при тихой погоде», – писал когда-то забытый ныне поэт-философ. Поэт умер, а строка осталась, и теперь Талигхилл понимал почему. И впрямь чуден. Он множество раз в своей не такой уж долгой жизни (особенно – с позиций предстоящего) бывал здесь, но не обращал внимания на реку – из-за занавесок паланкина немного увидишь. Теперь же, оказавшись перед величественно разлившимся водным исполином, смотрел, затаив дыхание... впрочем, какое там «затаив»! – перехватило у него дыхание от этой величественности и неторопливости; так течет по своим делам удав-долгожитель, так качает верхушками стволов бамбуковая роща, так шагает, таща за собой плуг, матерый буйвол, так выдыхают облака горы. Так несет воды Ханх.
Солнце теплым золотом переливалось на мельчайшей волне, одном лишь намеке на волну; летели, встревоженные громкими голосами и ржанием коней, рыболовчики – яркие длинноносые птицы размером с воробья-переростка; у дальних камышей выбирал сеть полунагой селянин в круглой соломенной шляпе. Деревянный мост, построенный чуть ли не самим Хреганом и с тех пор заботливо ремонтируемый, отражал лучи натертыми до блеска поверхностями статуй, укрепленных на перилах через равные промежутки. По мосту двигались люди и лошади. Сборщики платы за переход на тот берег (иначе – на какие средства обновлять мост?!) отошли в сторонку и сидели на бревне, лениво перебрасываясь между собой фразами. На солдат они завистливо косились: сколько денег можно было бы... Но не станешь же спорить с Пресветлым – пришлось пропустить так.