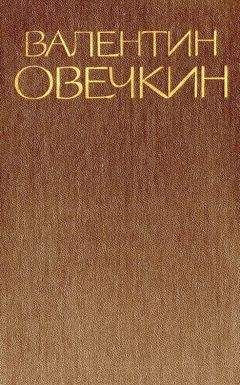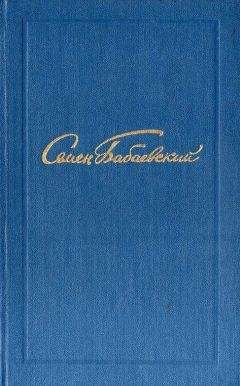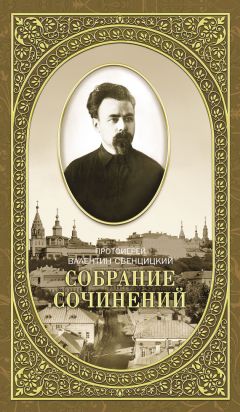Эрнст Гофман - Собрание сочинений. Том 1
Я. Итак, отныне ты был принят!
Берганца. Ах, друг мой, решение милостивой госпожи отдалось в моих ушах ударом грома, и не рассчитывай я в тот миг на свою придворную изворотливость, я бы немедля оттуда сбежал. Я бы только утомил тебя, ежели бы стал пространно перечислять все те средства, с помощью коих я пробрался из конюшни в прихожую и, наконец, в парадные комнаты госпожи. Об этом всего несколько слов! Верховая езда маленького мальчика, который, по-видимому, был любимцем матери, поначалу вызволила меня из конюшни, а расположение прелестной девушки, к которой я, едва увидев ее в первый раз, привязался всей душой, привело меня в конце концов в комнаты. Эта девушка так замечательно пела, что я понял, — капельмейстер Иоганнес Крейслер имел в виду только ее, когда говорил о таинственном, чарующем воздействии тона певицы, чье пение живет в его сочинениях или, скорее, их создает. Она имела привычку, по примеру хороших певиц в Италии, каждое утро добрый час петь сольфеджио; по возможности, я прокрадывался тогда к ней в залу, где стоял рояль, и внимательно ее слушал. Как только она кончала, я всевозможными веселыми прыжками показывал ей свое одобрение, за что она вознаграждала меня хорошим завтраком, который я поглощал наиприличнейшим образом, не запачкав пола. Вот так получилось, что в итоге в доме все стали говорить о моей учтивости и об особой склонности к музыке, а Цецилия особенно восхваляла мою любезность по отношению к ее ангорскому кролику, который безнаказанно теребил меня за уши и т. д. Хозяйка дома объявила меня восхитительной собакой, и после того, как я с подобающим достоинством и достойным подражания приличием присутствовал на литературном чае и концерте, а камерный клуб, которому было рассказано о моем романтическом появлении в доме, удостоил меня единогласным одобрением, я был возведен в ранг личной собаки Цецилии, таким образом цель, к которой я стремился, была действительно достигнута.
Я. Ну да, ты попал в изысканный дом, стал любимцем, по твоим намекам, весьма милой девушки, однако ведь ты собирался говорить о поверхностном намерении, о неискренности так называемых поэтических душ, и прежде всего рассказать о катастрофе, которая погнала тебя сюда?
Берганца. Потише, потише, мой друг! Не мешай мне рассказывать так, как мне приходит на ум. Разве это не благотворно для меня, если я подольше задерживаюсь на некоторых отрадных минутах моей новой жизни? К тому же все, что я рассказал о своем появлении в доме, коему я теперь желал бы провалиться в преисподнюю, также относится к той страшной катастрофе, от которой я хотел бы отделаться как можно быстрее, несколькими словами, — беда в том, что моя проклятая склонность описывать все словами так же ярко и красочно, как это видится мне моими духовными очами, опять влечет меня туда, куда я не хотел!
Я. Ну, тогда, дорогой Берганца, рассказывай дальше по-своему.
Берганца. Все же Каньисарес в конце концов оказалась права.
Я. Что это ты вдруг?
Берганца. Принято говорить: черт разберет, что это такое; но многого не разбирает и черт, и тогда люди опять говорят: экий глупый черт! Со мной и с моим другом Сципионом это всегда оборачивалось как-то по-особому. В конце концов, я и в самом деле Монтиель, урод в семье, которому маска собаки, предназначенная ему в наказание, служит теперь для радости и увеселения.
Я. Берганца, я тебя не понимаю.
Берганца. Если бы я, с моей искренней приверженностью ко всему доброму и истинному, с моим глубоким презрением ко всему поверхностному, к чуждой всего святого суетности, охватившей сегодня большую часть людей, мог бы собрать воедино весь мой ценный опыт, богатство так называемой жизненной философии, и явился бы в представительном человеческом облике! Спасибо тебе, дьявол, что ты дал колдовскому зелью бесцельно плавиться у меня на спине! Теперь я, собака, лежу незамеченным за печкой и с издевкой, с глубокой насмешкой, коей заслуживает ваша мерзкая пустая надутость, насквозь, до глубины вижу вас, человечков, вашу натуру, которую вы обнажаете передо мной без стыда и совести.
Я. Разве люди никогда не делали для тебя ничего хорошего, что ты с таким ожесточением нападаешь на весь род людской?
Берганца. Дорогой мой друг, за мою довольно долгую жизнь мне случалось принимать некоторые, быть может незаслуженные, благодеяния, и я с благодарностью вспоминаю каждый отрадный, блаженный миг, какой мне ненамеренно доставлял тот или иной человек. Заметь себе! Ненамеренно, сказал я. Благодеяния, хочу я сказать, это дело совсем особого рода.
Если кто-то почесывает мне спину или тихонько щекочет у меня за ушами, что сразу приводит меня в приятное, мечтательное состояние, или дает мне смачный кусок жаркого, чтобы я изъявил готовность, к его удовольствию, принести ему палку, которую он закинул подальше или даже бросил в воду, или чтобы я служил, сидя на задних лапах (до смерти ненавистный мне маневр), то этим он мне никакого блага не делает: это было даяние и получение, купля и продажа, где о благодеянии и долге благодарности речи быть не может. Но крайний людской эгоизм приводит к тому, что каждый лишь хвастливо восхваляет то, что сам он дал, а полученного даже стыдится, вот почему часто получается так, что оба одновременно винят друг друга в неблагодарности за оказанные благодеяния. Мой друг Сципион, которому тоже иногда жилось плохо, служил в то время в деревне у одного богатого крестьянина, человека жестокого, который есть ему почти не давал, зато частенько угощал изрядной порцией колотушек. Однажды Сципион, чьим пороком отнюдь не было пристрастие к лакомствам, только с голоду вылакал горшок молока, и хозяин, который это обнаружил, избил его до крови. Сципион быстро выскочил из дома, чтобы избежать верной смерти, так как мстительный крестьянин уже схватил железную мотыгу. Сципион мчался по деревне, но, пробегая мимо мельничной запруды, увидел, что трехлетний сынишка крестьянина, только что игравший на берегу, упал в поток. Мощный прыжок — и Сципион очутился в воде, схватил мальчонку зубами за платье и благополучно вытащил его на зеленую лужайку, где тот сразу пришел в себя, заулыбался своему спасителю и стал его ласкать. Однако Сципион пустился наутек со всей прытью, на какую был способен, чтобы никогда больше не возвращаться в эту деревню. Видишь, друг мой, это была чисто дружеская услуга. Прости, если подобный пример со стороны человека мне как-то сразу не приходит на ум.
Я. При всем твоем ожесточении против нас, людей, которые у тебя на весьма плохом счету, я начинаю все больше тебя любить, славный Берганца. Позволь мне совершенно бескорыстно выказать тебе мое расположение способом, который, как я знаю, будет тебе приятен.
Берганца, легонько фыркая, придвинулся ко мне поближе, и я несколько раз погладил его по спине, от головы к хвосту, и почесал; постанывая от наслаждения, он мотал головой, вертелся и извивался под моей ласковой рукой. Когда я наконец перестал, разговор продолжался.
Берганца. При каждом приятном физическом ощущении мне в воображении тоже являются прелестнейшие картины, и вот сейчас я увидел обворожительную Цецилию, как она однажды в простом белом платье, с красиво заплетенными в косы блестящими темными волосами, плача, удалилась от гостей в свою комнату. Я вышел ей навстречу и, как делал обычно, лег, свернувшись, у ее ног. А она взяла меня обеими ручками за голову и, глядя на меня своими светлыми глазами, в которых еще блестели слезы, сказала: «Ах! Ах, они меня не понимают. Никто, и матушка тоже. Так не поговорить ли мне с тобой, верная моя собака, обо всем, что лежит у меня на сердце? Ах, я даже не могу это выразить, а если бы и могла, ты бы мне не ответил, но зато и боли не причинил бы».
Я. Эта девушка — Цецилия — становится мне все интереснее.
Берганца. Господь Вседержитель, коему я поручаю мою душу, — пусть нечистому не достанется от нее ни доли, хотя это ему я, скорее всего, обязан обличьем благородного венецианца, в каком уже столько времени болтаюсь здесь, внизу, на большом маскараде, — да! Господь Вседержитель создал людей совсем разными. Бесконечное разнообразие догов, шпицев, болонок, пуделей это ничто против пестрого смешения острых, тупых, вздернутых, крючковатых носов; против бесконечного различия подбородков, глаз, лобных мышц, а разве возможно представить себе всю разницу в образе мыслей, все особенности взглядов и мнений?
Я. К чему ты ведешь, Берганца?
Берганца. Прими это как общее или же как обыкновенное рассуждение.
Я. Но ты опять совсем отклонился от приключившейся с тобой катастрофы.
Берганца. Я только хотел тебе сказать, что моя хозяйка сумела завлечь к себе в дом всех сколько-нибудь значительных художников и ученых, какие были в городе, и при участии самых образованных семейств создала такой вот литературно-поэтически-художественный кружок, который она возглавляла. Ее дом был в некотором смысле литературно-художественной биржей, где совершались всевозможные сделки с суждениями об искусстве, с самими произведениями, а иногда и с именами художников. Музыканты ведь дурашливый народ!