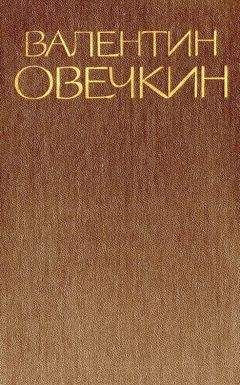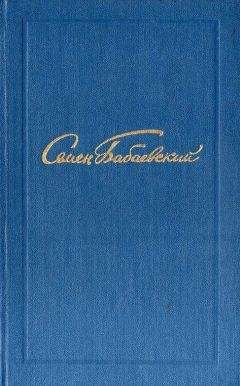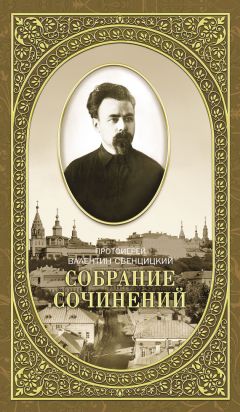Эрнст Гофман - Собрание сочинений. Том 1
Я. Ах, ах! Дорогой мой Берганца, я же сказал, они хотели придать человеческий облик Монтиелю, которого князь тьмы употребил на что-то другое, колдовство потерпело неудачу, разбившись о могущество юнкера, который с язвительной насмешкой, как Мефистофель в кухне ведьмы, побросал в одну кучу зверей и утварь, так что полетели осколки и затрещали суставы, и тогда они уготовили тебе эту ужасную борьбу, какую ты теперь, как говоришь, вынужден выдерживать каждый год в тот злосчастный, роковой день.
Берганца. Однако эта борьба будто с неизменно воспроизводящей силой продлевает мне жизнь до бесконечности, ведь от бесчувствия я каждый раз пробуждаюсь помолодев и окрепнув. Особое сочетание светил, под которым я родился и которое наделило меня способностью не только слышать вашу речь, но также по-настоящему ей подражать, вступило в конфликт с колдовской силою ведьм, и теперь ни палка, ни пуля, ни кинжал не могут меня достать, я скитаюсь по свету, как Вечный Жид, и не найду места, где бы мог отдохнуть. Это поистине судьба, достойная сострадания, и ты нашел меня погруженным в размышления о моей беде, как раз когда я убежал от скверного хозяина и целый день ничего не ел.
Я. Бедняга Берганца! Когда я вот так разглядываю тебя вблизи, при лунном свете, на твоем хоть и слегка черноватом лице все больше проступают черты надежной добропорядочности, благородного нрава. Даже твоя способность говорить, впрочем несколько ошеломляющая, больше не возбуждает во мне ужаса. Ты поэтическая собака, я беру на себя смелость это сказать, а поскольку я сам, — тебе это должно быть известно, коли ты меня знаешь, — в высшей степени воспламенен всем поэтическим, то что, если ты подаришь мне свою дружбу и пойдешь со мной…
Берганца. Об этом стоит поговорить, только…
Я. Пинков не будет, тем менее — побоев. Каждый день, кроме обычной еды, на десерт — хорошо поджаренная сарделька. Да и аппетитный запах телячьего жаркого не раз будет щекотать тебе ноздри, и не понапрасну придется тебе ждать изрядной порции такового.
Берганца. Ты видишь — твое предложение не оставило меня равнодушным, я прямо не могу удержаться и тяну носом воздух, будто жаркое уже близко. Однако ты кое-что опустил, и это меня не то чтобы совсем отпугивает, но внушает большие сомнения.
Я. Что же это, Берганца?
Берганца. Ты говорил о поэтическом, о воспламененности.
Я. И это тебя отпугнуло?
Берганца. Ах, друг мой, позволь мне быть откровенным! Я всего только собака, но ваше преимущество — ходить на двух ногах, носить штаны и беспрестанно болтать что вам вздумается — не более ценно, чем уменье при долгом молчании сохранять верную душу, которая постигает природу в ее священнейших глубинах и из которой произрастает истинная поэзия. В некое дивное старое время, под южным небом, что посылает свои лучи в сердце всякой твари и возжигает ликующий хор созданий, я, произошедший от низких родителей, прислушивался к пенью людей, коих называли поэтами. Их поэзия была стремлением из самых недр души передать те звуки, которые природа на тысячи ладов повторяет, будто свои собственные, в каждом создании. Пение поэтов было их жизнью, и они посвящали этому жизнь, словно высшему смыслу, какой природа благоволила им возвестить.
Я. Берганца! Я поражаюсь тому, что ты так хорошо владеешь некоторыми поэтическими выражениями.
Берганца. Мой друг! Говорю тебе, еще в мои лучшие годы я подолгу и охотно жил у поэтов. Хлебные корки, которые давал мне тот бедный студент, от души делясь со мной своей скудной пищей, были для меня слаще, чем какой-нибудь кусок жаркого, презрительно брошенный продажным слугой. Тогда в груди призванных еще пылало искреннее, святое стремление высказать прекрасными словами то, что они восчувствовали в сердце, и даже те, кто не был призван, обладали верой и благочестием; они чтили поэтов как пророков, которые вещали о прекрасном неведомом мире, полном сверкающих богатств, а сами даже не мыслили дерзнуть непризванными войти в святилище, о коем поэзия посылала им смутную весть. Теперь же все стало по-другому. Если у богатого бюргера, у господина профессора, у господина майора полное гнездо ребятишек, то Генсхен, и Фридрих, и Петер должны петь, играть, малевать и декламировать стихи, невзирая на то что для истинного ума все эти их упражнения просто невыносимы. Это входит в так называемое хорошее воспитание, а позднее всякий считает себя вправе лезть со своей болтовней, копаться в сокровеннейшей сути творений поэта, художника и мерить их своей меркой. Можно ли глубже оскорбить художника, чем позволив черни считать его себе подобным? А ведь это происходит каждый день. Сколько раз я испытывал отвращение, когда такой вот тупоголовый малый разглагольствовал об искусстве, цитировал Гете и силился озарить вас блеском поэзии, одна-единственная вспышка которой испепелила бы этого худосочного и бессильного недоросля. Прежде всего, — не обижайся, дружище, если окажется, что твоя жена или возлюбленная из таковских, — прежде всего мне до тошноты противны ваши разносторонне образованные, поэтичные, артистичные женщины, и как ни приятно мне бывает, когда меня гладит нежная девичья рука и я могу положить голову на хорошенький фартучек, то все-таки, если я слышал, как такая вот женщина без всякого истинного чувства, без высокого понимания сыплет заученными пустыми фразами и несет всякий вздор, мне частенько казалось, что я должен оставить ей памятку о моих острых зубах на каком-нибудь чувствительном месте тела!
Я. Ай, Берганца, постыдись! Это в тебе говорит мстительное чувство ведь во всех твоих неприятностях виновата женщина, Каньисарес.
Берганца. Как сильно ты заблуждаешься, когда строишь комбинации из чего-то, что вовсе не имело и не имеет между собой ни малейшей связи. Поверь мне, какое-либо страшное сверхъестественное явление в жизни действует как сильный электрический удар, разрушая тело, неспособное ему сопротивляться, однако сильную натуру, которая его выдержит, оно закаляет новой силой — по крайней мере, я так это понял. Когда я вживе представляю себе Каньисарес, то мои мышцы и нервы напрягаются, во всех жилах стучит пульс, но даже после недолгого изнеможения я встаю окрепшим, а потрясение благотворно сказывается на моей физической и психической деятельности. Но такая вот поэтически образованная женщина с ее поверхностным взглядом, с до боли напряженным старанием заставить весь мир поверить в то, что она в восторге от искусства, от божественного, и так далее, — ах, ах…
Я. Берганца! Что с тобой — ты запнулся? Ты положил голову на лапу?
Берганца. Ах, мой друг, говоря об этом, я уже чувствую губительную вялость, неописуемое отвращение, какое овладевает мною при злополучной болтовне образованных женщин об искусстве, доводя меня до того, что я нередко неделями не прикасаюсь к отменному жаркому.
Я. Но, милый Берганца, разве не мог бы ты должным ворчанием и лаем прервать такой вот пустой разговор, ведь пусть бы тебя даже вышвырнули за дверь, зато ты избавился бы от этой чепухи?
Берганца. Положа руку на сердце, дружище, признайся, разве не случалось тебе нередко по совершенно особым причинам давать мучить себя без нужды? Ты находился в премерзком обществе — мог взять свою шляпу и уйти. Ты этого не сделал. То или иное опасение, не достойное того, чтобы сказать о нем без внутреннего стыда, остановило тебя. Ты не хотел обидеть того или этого, пусть бы его благоволение и ломаного гроша для тебя не стоило. Тебя заинтересовала какая-нибудь гостья — тихая девушка возле печки, которая только пила чай и ела пирожное, и ты хотел в подходящий момент блеснуть перед нею умом и сказать: «Божественная! Чего стоит весь этот разговор, и пение, и декламация — один-единственный взгляд ваших божественных глаз дороже, чем весь Гете, последнее издание…»
Я. Берганца! Ты начинаешь язвить!..
Берганца. Ну, друг мой! Если нечто подобное случается с вами, людьми, почему бедная собака не может честно признаться в том, что она нередко оказывалась достаточно испорченной, чтобы радоваться, если, невзирая на ее слишком крупный рост для изысканных собраний, где обычно присутствуют только жеманные мопсы и сварливые болонки, она бывала милостиво там принята и с красивым бантом на шее могла лежать под диваном в изящной комнате своей хозяйки. Однако зачем я утомляю тебя всеми этими попытками доказать, сколь плохи ваши образованные женщины? Позволь мне рассказать тебе о катастрофе, пригнавшей меня сюда, и ты поймешь, почему пустой или поверхностный характер теперешних наших так называемых остроумных кружков приводит меня в такую ярость. Но сперва надо немного освежиться!