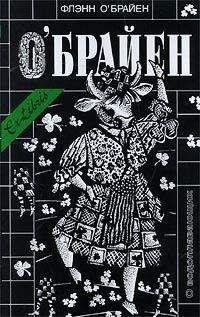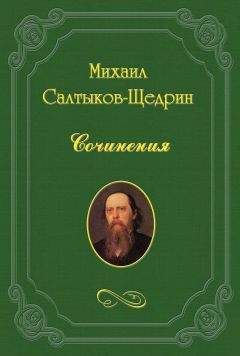Антон Ботев - Кот Шрёдингера
Например, я часто размышляю о женщинах и тогда рассматриваю их по двумерному базису. Одна координата этого базиса (пускай для определенности это будет абсцисса) означает физическую привлекательность, или, с моей стороны, похоть; вторая (ордината) — интеллектуальную привлекательность, желание коммуникации. Любую женщину можно поместить на координатную плоскость с этими осями. Обладать женщиной, расположенной далеко по оси абсцисс, означает трахать ее тело, расположенной далеко по оси ординат — трахать ее мозг. Разумеется, слово трахать допускается здесь и в пассивном залоге. Если женщина находится далеко от нуля по одной из осей, это немного удаляет ее от нуля и по другой. Такие вот у меня правила относительно женщин.
Любое действие моей попутчицы (я тут не старуху, конечно, имею в виду) увеличивало или уменьшало ее положение — я не сказал только, что лишь по одной оси, ординат. Любые глупые слова или поступки могли облегчить мою боль, но не избавить меня от нее совсем, потому что даже если она (попутчица) расположится на нулевом значении оси ординат, то есть покажет себя бесконечно глупой, она все равно останется для меня бесконечно привлекательной в сексуальном смысле. Я не представлял, что может хоть немного приблизить ее в этом отношении к центру координат, где я сидел, как паук.
Сидя в нуле, я одновременно лежал на верхней полке и любовался на девушку, которая, казалось, вовсе не обращала на меня внимания. Старик достал большой ком фольги, развернул ее — внутри оказалась пахучая курица, насыпал соли, достал луковицу, начал есть, макая курицу в соль и заедая ее луком. Он что-то сказал по-карельски, скажем, куй сину нимиття, или как-то так, не смотря ни на кого, но я так понял, он обращался ко мне, потому что девушка не отреагировала (а старуха спала и плакала); старик повторил громче, настойчивей, а девушка опять не отреагировала, и тогда он хрипло заорал КУЙ СИНУ НИМИТТЯ, или как-то так, и девушка спросила, без акцента ровным голосом, так же не глядя на меня, но понятно, что обращаясь ко мне, потому что по-русски же, как вас зовут, и я сказал почему-то не Эдик, а Вова, меня зовут Вова, и девушка сказала старику эй оле нимида блади, или как-то так. Старик этим удовлетворился и продолжал жрать свою курицу; похоже, он был пьяный, но девушка сидела спокойно и его не опасалась. Я же не знал, что сказать дальше. Я хотел, пользуясь случаем, спросить у девушки, как зовут ее, несмотря на всю бесполезность этого знания, но упустил момент и теперь спрашивать было глупо, и я чувствовал себя довольно бессмысленно. Я погладывал на нее и понимал, что надо что-то сказать. Она сама пришла мне на выручку, улыбнулась и сказала: а меня зовут Ильма. Лучше бы она этого не делала. Я имею в виду, не улыбалась. Она еще сильнее отдалилась от начала координат (по обеим осям), хотя, казалось, сделать это было невозможно. А меня Вова, находчиво снова сказал я. Очень приятно, сказала девушка. Это будет Блади по-карельски. Что? Владимир это Блади. Вы в Питкяранту едете, спросил я. Да, сказала девушка и вышла в коридор, не желая, видимо, слушать запах лука и мяса. Стоя она была еще прекраснее, такая тонкая, тонкая, изящная. Ростом примерно с меня, но так сообразно сложена, что казалась выше. Сумочка черная, на крупной цепочке. Мне тоже вдруг разонравился запах, и я вышел в коридор. Там ничего и никого не было. Прижаты на пружинках к стене были пустые раскладные стулья. Я пошел в тамбур, желая попросить у нее огоньку и курить рядом с ней не в затяг (потому что курить всерьез я не умею), но и в тамбуре ничего и никого не было. Я пошел в вагон-ресторан, обошел весь поезд, но в этом поезде не было вагона-ресторана. Я вернулся в свой вагон, желая найти ее там, но и в вагоне ее не было. Не искать же ее по всем вагонам! Лег на свое место, стал смотреть в окно. Стемнело. Старик выключил свет. То есть сначала старик выключил свет, потом лег на свое место, стал пить пиво и смотреть в окно. То есть, еще точнее: лег на свое место, стал читать и пить пиво, старик выключил свет — начал смотреть в окно, одновременно пия пиво.
Ехали мимо деревни. Вдоль ж/д приделаны к стене фонари, освещающие только сами себя; непонятно, зачем они вообще там приделаны — глухие заборы, к которым прикреплены фонарики, выходят на железку, между забором и железкой ни дорожки, ничего — наверно, чтоб пассажирам было нескучно ехать и смотреть на фонарики.
Потом ехали вдоль какого-то поля, за которым находилось что-то, сияющее многоцветными огнями — город или фабрика, или не знаю что еще. Посреди поля стояла станция, или посадочная платформа, а за посадочной платформой что-то сияло многоцветными огнями; потом снова поле, потом деревня, а за деревней поле, а за полем многоцветные огни.
Потом какой-то городок с домами богатеев (политкорректнее будет сказать состоятельных людей), вернее, городок, составленный из домов богатеев, нет, скажу так, состоятельных людей, такое ощущение, что дома стоят кружком (хотя это не так); если б дома были людьми, они составили бы тут небольшое элитное общество. Потом опять темнота. Потом иногда освещенные участки станционных территорий, ярко освещенные изнутри пустые дома, так что видно дом насквозь, от одного окна до другого, и даже немного темноты за дальним окном видно, или же дома без стекол, промозглые, продуваемые снегом, так, что зимой снежинка может, не встречая сопротивления, со свистом пролететь на огромной скорости сквозь здание и не растаять.
Ильмы все не было.
Потом снова поле, только приподнятое, так, что из окна видны только какие-то дымы, как будто от ТЭЦ (может, и в самом деле от ТЭЦ), целый ряд, на равном расстоянии друг от друга, освещенные снизу чем-то многоцветным, гигантским. Потом появились и трубы с красными огоньками, когда поле опустилось (или рельсы поднялись), а потом и нечто многоцветное типа города или большой фабрики. Потом многоцветное закрыл лес. Потом в лесу появились просеки — сначала только догадываешься, что там просека, потом бац и видно просеку целиком, а потом остается догадываться, что там была просека. Потом опять лес и темнота. Потом просека, но не простая, а широкая, по ней идет ЛЭП, несет электричество в бескрайние северные просторы. Потом ж/д переезд, шлагбаум, перегораживающий дорогу, дорога уходит в темноту. Какие-то отвалы, земля вперемешку со снегом. Потом опять поля, но уже внизу, вдоль леса едет по направлению к ж/д переезду одинокая машина и светит фарами, а за лесом вновь дымы, освещенные снизу многоцветным. Потом дорога между другим лесом и железкой, вдоль полотна, освещенная фарами встречного поезда, и как же долго нет этого встречного поезда. Просто неправдоподобно долго нет. Потом и встречный поезд, темнота и грохот; когда мимо окна пролетает межвагонное пространство встречного поезда, и темноты, и грохота становится меньше.
Потом станция и множество, множество путей на широком освещенном пространстве, и путеец, и рельсовый кран, а потом снова пустой темный лес.
Освещенный желтым светом куб еще одной станции, и внутри куба находится человек.
Город сверху, игрушечный. Игрушечные машинки, игрушечные домики.
Трубы вблизи, совсем вблизи.
Дорога вдалеке, равные промежутки между фонарями.
Пустынный большой вокзал и привокзальная площадь, вообще никого, освещенный яркий киоск роспечати.
Ряд вагонов.
Опять трубы.
Восхитительно пустая стена заводской территории. Ах, нет, это стена дома, в ней же окна. А Ильмы все нет.
Пустая электричка.
Стена фабрики, к ней привалена груда мешков.
Зона, вышка, охранник.
Сломанный забор.
Мост, только реки не видно, слепят прожекторы, за мостом сторожка, где живет человек, обязанность которого не пускать злоумышленников с гексогеном и т. п.
Проводники пьют пиво. А у меня закончилось.
Старуха всхлипывала. Старик храпел. Ильма так и не пришла, я заснул.
Ильма как стрела, а я как цель, вернее, я как стрела, а Ильма как цель, хочу попасть прямо в нее, внутрь нея, и разорваться внутри на миллион белых капель. Примерно понятно, что мне снилось. В общем, я и разорвался на миллион белых капель.
Утром разбудил всех проводник, великодушно давший поспать ночью, взял билеты, вам в Питкяранту же, ну вот, через полчаса Питкяранта, готовьтесь, билетики, да-да, вот наши билетики. Старуха рассказала свою историю. Ее повествование о том, почему глаза у нее на мокром месте, адаптированное, сконденсированное, исправленное и сокращенное, сводится к следующему.
Тетка эта в доме пол мыла, а сынишка-то у нее все под ногами вертелся, а она разозлилась на него и прикрикнула: понеси, мол, тебя леший. И мальчик-то ушел и не вернулся. Искали его двенадцать дней. Находили в лесу ботиночки его да одежду, всю рваную, а мальчика-то нигде нету. Пошла она к колдуну, а колдун-то и говорит ей: Собери ночью ему отобедать, сын твой и явится. А как явится, так сразу и перекрести его. Она так и ам к женщине, та и говорит, чтобы вернуться, надо не кричать и не разговаривать ни с кем. И у них там Чернозем, лес такой черный был, все Черноземом звали. Они тут с женщиной, с Марьей Чекушиной, пошли на этот Чернозем вечером. Пришли, только сели-то, ну она там, что сказали, сделала, видимо, как лес гнуть начало, шум такой пошел. Ну вот стоят, и слышно: идет большой и маленький, разговаривают. Большой маленького ведет, все говорят, что лесовой его вел. А как лес ломить крепко начало, Марья-то Чекушина испугалась да закричала. Он, этот страшный, по-грубому выругался, развернулся, и вот ломка вся прошла (говорят, лесу навалено было), и увел обратно, и все. Больше этот паренек нигде не оказался. А муж, который ей креститься запрещал, повесился. Вот почему она плачет.