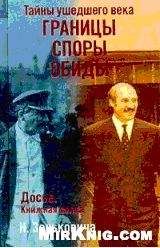Татьяна Мудрая - Костры Сентегира
А у него вроде как и иных забот не было, кроме как со мной нянчиться: и очаг заново протопил, и обед для меня одной сготовил: чай с мёдом и курдючным салом, пшеничный кулёш, пропахший диковинными кореньями, опять, как у Керга, кумыс в совершенно жутких количествах. Сам уходил ненадолго: кобылиц доить, говорил, это же со времен моих предков монголов мужское занятие. Там и ел, наверное. И приносил мне очередной мех из дублёной кожи на разделку…
Ночью Денгиль карабкался наверх, меня укладывал вниз, под то самое трехцветное покрывало. Утром будил, ещё размякшую со сна, заставлял обтираться снова: чистым снегом От этих издевательств кашель и тот испугался, перестал, и боль почти ушла — а то нытьё под левой ключицей уж очень донимало. И снова по горам гулять… Тоже устал?
— Я слушаю, — полусонно произнёс ее собеседник, встряхивая волосами. — Так мы никуда… вы там так и поселимся, что ли?
— Вечером он позволял себе чуть отойти. Помещался рядом со мной у мерцающих, притухших углей, дым сплетался с его выгоревшими патлами и моей светлой косой одинаково. Читал стихи — знал их много, и восточных, и западных авторов. Я тоже подхватывала — тогда он замолкал, слушал, будто в первый раз, замечтавшись, — мститель, убийца, «Меч Неправедным», такое его прозвание я тоже слыхала. Моих же людей карал за мелкое мародёрство, свою метку на лбу потом резал, как скоту. «Во что мне обойдется это ваше лечение?» — так и вертелось в ту пору у меня на языке. Но боялась оскорбить: противника лечат лишь ради того, чтобы достойно с ним сразиться.
И вот недели через три такой жизни просыпаюсь я ночью в одной сорочке, облепившей формы, даже без одеяла. И стоят надо мною в свете жирника два мужчины: Денгиль и еще один, в зелёном обмоте поверх лекарской скуфейки. Общупывает меня всю и ещё приговаривает разные непонятные словеса. Мама миа, муслимы, да еще хаджи, по одному биению пульса все болезни должны прочитывать, а тут такое! А чуть позже расставили они у ложа с десяток высоких светильников с плавучими фитилями, лекарь бросил что-то во вмиг поднявшееся пламя. Денгиль говорит: «Не вставай с места и ничего не страшись». Завернулись в свои плащи и вышли.
Вот тут они и явились — эти пламенные джиннии. «От кистей рук до того острия, на котором они раскачивались, как волчки, светлый туман их тел одевали совсем уж прозрачные крылья или складки одежд, лица были непостижимо прекрасны в своей печали».
— Цитата из сказки? У тебя даже голос изменился, а…
— Всю ночь они танцевали, отгоняя от меня холод и тьму своим теплом и светом, а мужчины стерегли действо, сидя на пороге. В том моём сне были чудища с лицом моего тогдашнего лекаря… И всякие другие…
А я проснулась, и меня самым пошлым образом вырвало. С кровью, гноем и всякими гнилыми ошмётками. И поняла я тогда, что ночь моя длилась суток трое, по меньшей мере, и что Денгиль всё это время ходил за мной, как за грудным младенцем.
— Вот и отлично, вот и умница, — говорит. — Я же сказал — не бойся, а ты перепугалась под самый конец. Ну, зато уже всё. Теперь всё.
Дал прополоскать рот каким-то отваром, только не глотай, говорит, пить тебе пока еще нельзя. Укутал в сухое, нагретое над очагом.
— Что за фокус вы оба надо мной проделали? — говорю. Прямо так переходить на «ты», как он сам со мной, вроде не к лицу казалось.
— Это не фокус, а было на самом деле, — отвечает. — Только нечеловеческое тебе дали видеть человеческими глазами. Ад и рай, хаос и порядок снисходят к воинам Пути в образах…
Ну да. И главным в них — мой самый давний ужас и главный неоплаченный долг.
— Джен, — говорю. — Лекарь тот далеко ушёл?
Смеётся — знает.
— Так же далеко, как твоя болезнь.
— Когда догонишь, скажи: я с ним в расчёте. За благой смертью, которая ему от меня обещана, пусть к моей Майе-Рене обращается с молитвой.
И как только произнесла я это — гул, грохот и тяжкий удар. Лавина вниз сошла прямо на нас. И сразу — глухая темнота, только чуть угли светятся, будто свеча сквозь стиснутые пальцы рук.
Глянул на меня Джен — а я ведь тогда детское его имя угадала — и говорит:
— Вот и замуровали нас вдвоём. Еды на неделю, воды из окна — сколько достанешь ковшиком на длинной ручке, дров, жаль, немного. Собаки ушли, я так думаю, лошади в табуне пасутся. Дым из трубы пока идёт. Будем ждать, пока мои люди догадаются и нас откопают.
— Крыша-то выдержит? — говорю.
— Считай, уже выдержала. Первый удар — самый опасный.
— И долго ждать, пока выручат?
Смеётся:
— Может, день, может, неделю, а может, и всю оставшуюся жизнь.
— Это хорошо, — говорю.
Кардинена расстелила под Сорди, почти падающим наземь, свой плащ, подумала — сняла свой, накрыла сверху. Подоткнула края под лежащего.
— Понимаешь, лукавил он. И я лукавила, что верю ему. Это снаружи дом был как крепость — даже отхожее место было наисовременнейшее, на оборотном масле, чтобы не выходить в случае осады, и вода не только за окном — в цистерне, что занимала почти весь подвал. А изнутри стоило лишь дверь с петель снять — и вышли бы с той скоростью, с какой Денгиль сумел наружу прокопаться. Только меня это бы убило: и холодом, и тем, что непременно впряглась бы помогать. Он сказал потом: «Не хотел свою работу портить».
Привалилась к боку Шерла, обняла руками колени.
— За любую кривду платишь, любая слабость твоя, физическая ли, душевная, в конечном счёте оборачивается против тебя. Только разве нас обоих это могло остановить? Я в первый и последний раз в жизни захотела стать слабой: чтобы от меня ничего не зависело. А он… Я так думаю, я для него ещё тогда была чем-то вроде жар-птицы, когда они меня умирающей девчонкой вместе с Кареном из расстрельного оврага тащили. Не меньше — но и не больше.
… Глупейшие слова. «Бог создал тебя для Волка, ты веришь?» «Нам надо экономить тепло, лезь уж рядом под мех — твой собственный, однако». «Мне ничего не нужно от тебя, только слышать твоё дыхание, стук твоего сердца, знать, что ты есть где-то на земле». «Неправда: на твоих губах ещё было правдой, а в моих ушах — уже нет». «Да, моя любимая, моя госпожа. Моя джан, моя кукен». «Если попы правду говорят, что грех помысленный равен греху уже совершённому, то нам обоим ведь всё равно теперь, Джен?» «Все равно, моя джан».
И руки, что раскрывают тебя, как жемчужную раковину, губы, что рыщут по тебе, как слепой детеныш в поисках молока, не оставляют сил для защиты, места для дыхания, его тяжесть, твоя тяжесть, и ты впускаешь его в себя, не понимая до конца, что это вы оба делаете, что творится через вас обоих…
А откопали нас вообще через полтора дня. Еще и смеялись потом…
XV
Сорди тем временем снился сон. Путаный, какими часто бывают сны, но так же, как обычные сны, не оставляющий, пока длится, сомнений в своей реальности.
Будто идёт он по своей любимой Никольской улице, где проход к другой станции метро врезан прямо в бело-голубое изузоренное тело Историко-Архивной Академии, а напротив неё — старый ГУМ, изнутри и снаружи крашенный шаровой краской, плывёт над толпой, как авианосец. Внутри ГУМ оказался на удивление пустынен; так было на олимпиаду восьмидесятого года, когда запретили въезд приезжих за покупками. Сам Сергей тогда ходил в мальчишках, но хорошо помнил и летающего медведя, и новые дома, и дефицитные вещи с олимпийской символикой и наценками. Только на сей раз ничего не видно на прилавках, кроме всякой нарядной пестроты без ценников. Несмотря на это, покупатели и покупательницы неторопливо прохаживались по рядам, заговаривали друг с другом, встречались у фонтана, что усердно пытался пробить купол гибкой тугой струёй.
— Сержик, — внезапно слышится низкий, капризный голос. Грудное концертное контральто, чёрные глаза, ситцевое платьице без пояса, в мелкий цветочек, поверх него вязаная кофточка на деревянных пуговицах, на ногах летние баретки, на бубикопфе — соломенная шляпка, горшком надвинутая на глаза: спрятать крайне левую позицию в половом вопросе.
— Что тебе, бабуль? — отвечает он без удивления, будто так и надо: прийти к Мюру и Мерилизу и сразу же встретить свою молодую и красивую, как на старой фотке, прародительницу.
— Прошлого раза я таки не получила ответа. Я живу здесь неподалёку. Моя такса — тридцать рублей. Не пожалеешь, обещаю. М-м?
— Извини, я…
Фланёр хочет сказать, что занят, но на такую очевидную ложь его не хватает.
— Знаешь что? — отвечает он. — Купи вкусного, чего тебе захочется, я тебя на трамвайной остановке подожду. Безешек там. Франзолек. Сыру бри. И бутылочку асти…э-э… спуманте, ладно?
Сергей вкладывает бабочке в длинные алые ноготки купюру с молотобойцем, похоже, что крупного номинала, и, не дожидаясь восхищенного «ах», поворачивается и уходит.
«Оказывается, когда надо, я способен ткать деньги прямо из воздуха», — думает он.