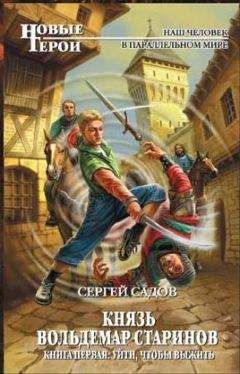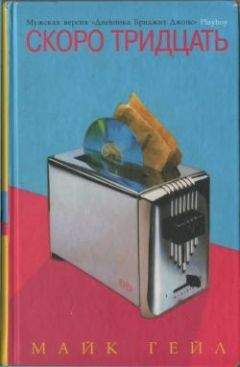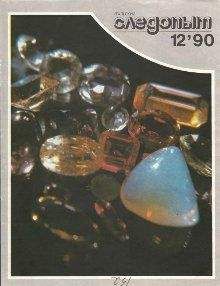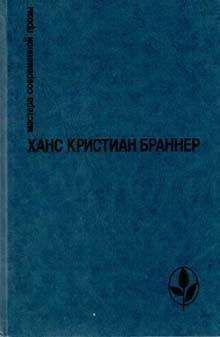Дао Дзэ Дун (СИ) - Смирнов Сергей Анатольевич
— Наверно, — кивнул Страхов, с легким удивлением, переходящим в настороженность, замечая, как автобиографический рассказ Дрозофилы подбирается и к его личной, далеко запрятанной боли, и, значит, это все неспроста. — Для кого как…
— Вот и я говорю, ну, застроили любимую полянку детства, жизнь-то ведь не кончается, всегда так было, со всеми, у каждого какую-то любимую полянку отнимают, и все нормально, продолжают жить… а не летят сломя голову туда, где вокруг все, вообще, по-другому и ничто не напоминает о чем-то таком, с чем расстаться невмоготу… Не боятся же люди сойти с ума — потому, наверно, и человечество умнеет.
— Ты это о чем? — пробормотал Страхов, видя, что она уже не с ним говорит, а с тенями родителей опять, наверно, в который уж раз спорит… а заодно, походя, и в его огород такие камешки кидает… прямо, Тунгусские метеориты!
— Да что там! — грустно улыбнулась Дрозофила. — Они обо мне бы подумали… Мне эта игла задницу не колола, вот что! Я бы перетерпела… А был у меня двор, друзья… Они у меня тоже много чего отняли, когда побоялись, видите ли, сойти с ума от новой реальности…
— А двор остался? — спросил Страхов.
— Остался, — сказала Дрозофила.
— Навещаешь?
— Нет. — Глаза ее даже протрезвели. — Я лечилась от ностальгии. Мне это все нельзя — служба такая.
Она завела руку за спину и отработанным движением достала стаканчик, уже наполненный с помощью услужливого автомата.
— Извини, — сказал Страхов. — Я — бывший врач, и у меня рефлекс… Я имею в виду, что тебе, пожалуй, хватит.
— Да? — Дрозофила удивленно заморгала, взглянула в стаканчик. — Спасибо за заботу. На!
И она протянула его прямо под нос Страхову:
— Выпей. Ничего… Нейтрализуем перед прибытием.
Страхов и не собирался отказываться: как это ему, прирожденному исследователю, не продегустировать аутскую водку! Он хапнул и — о, блаженство!
Дрозофила сунула ему в нос свое надкушенное яблоко. От такой чести нельзя было отказываться, хотя первый глоток такой великолепной холодненькой водки грех было и закусывать. Но вежливость превыше всего.
— Спасибо, — сказал он и хрустнул.
— Да не за что, — без воодушевления ответила Дрозофила. — Теперь и тебе хватит… Они, может, и живы остались бы, если бы не поехали…
— А что там, в Танзании, совсем не понравилось? — попытался Страхов хоть чуть-чуть отвести «дорожку» в сторону.
— Ну, почему… — Дрозофила подняла глаза, и просторы саванны отразились в них. — Жирафы, зебры, слоны… Это ж интересно… Но жить там…
В общем, так сошлось, что родителям Дрозофилы предложили европейский грант на длительную работу в Танзании, и они восприняли его, как знак судьбы: «Надо уезжать из этого оскверненного дома!» — ни меньше, не больше.
И стали они жить втроем в Танзании, неподалеку от туристического городка Аруша, на отлично обустроенном «научном хуторке». Хуторок располагался на стыке плантаций кукурузы, и охрана была общей — и для плантаций, и для исследовательского центра.
А главными ее друзьями стали три сторожевых ретривера и серый мерин Мартин.
Родители занимались эпидемиологическими исследованиями, а она… Ее возили в заповедники — Нгоронгоро, на озеро… Потом разрешили кататься на Мартине вокруг хутора. Иногда приезжали врачи — местные, продвинутые африканцы в белых сорочках, галстуках и со своими детьми, очень довольные и очень добрые люди, каких она на севере не видела. И англичане тоже наведывались, холодные и чопорные от мала до велика. В общем, она устраивала свою одинокую реальность, как могла. Потом, в самый черный день это ее умение быть одной очень пригодилось, чтобы не сойти с ума и выжить…
Через год после переезда в Африку родители хотели отправить ее в Англию, учиться. Но как раз началась мода на оффшорные школы, на учебный аутсорсинг. Родителям предложили поучаствовать в новом проекте — совершенно бесплатном и самом что ни на есть продвинутом. Что касается новизны научного рода, тут родители были фанатами прогресса — они сразу согласились. И вот в их домике, стилизованном под масайскую хату уровня «де люкс», появилось трюмо из плазменных панелей и специальная видео-приставка. Когда все включалось и работало, возникало ощущение, что ты сидишь в настоящем классе, а вокруг тебя сидят одноклассники. Учителя объясняли, давали задания на дом, могли вызвать к доске… И девочка по прозвищу Дрозофила вставала и, если надо было что-то писать на доске, то она вставала и поворачивалась спиной к учителю, смотревшему на нее с центрального экрана, потому что доска находилась позади… И была еще одна особенность: на каждом уроке практически все соседи менялись и похулиганить было невозможно, потому что каждый из них оставался у себя дома — кто в Москве, кто в Исламабаде, кто в Лагосе. Но и учителя тоже были далеко, что было немного радостней…
Языков она освоила кучу одним махом. Это тоже потом очень пригодилось — она быстро осваивала любой новый язык, необходимый при выполнении спецзадания.
— А потом — бах! И все. И говорить не с кем стало… — Дрозофила жестко сжала предплечье Страхова, опустила глаза и молчала долго, готовясь вербализовать самое главное — самую тяжелую психическую травму. — Все взяли и умерли. Представляешь?
Слез не было… Конечно, психологи неоднократнопроводили ее через вербализацию, и это нормально, что необходимость в ней периодически возникала вновь.
— Это практически невозможно себе представить, — проговорил Страхов. — Сколько тебе тогда было?
— Уже двенадцать. — По ее голосу можно было понять, что первый «кордон» преодолен. — Знаешь, такие мечты в детстве бывают. Хочу, чтоб я была в мире одна и больше никого — и тогда можно делать, что хочешь, и брать себе все, что хочешь. У меня такие мечты там, в Танзании, часто бывали. И вот оно!.. Ты знаешь, нет ничего страшнее этой мечты, если она начинает сбываться.
— Это уж точно, — кивнул Страхов, вспомнив вдруг про Лизу, лежащую ледяной мумией в Капотненском темпоре, и про сына, занятого учебой в престижном цюрихском лицее… и про Анну тоже, вокруг которой выбивают в этом благополучном и счастливом мире всеобщего Равновесия одного за другим тех, на кого можно хоть ненадолго положиться.
— Знаешь, я на уроке сидела. Литература была, и учитель рассказывал про Маугли. Ничего себе совпадение, а?.. И вдруг так собаки заскулили наружи. И Мартин заржал жалобно. Я подумала, что гиенны пришли… Они в засушливое время иногда приходили по ночам, всякие отбросы искали. Но почему днем? Я почувствовала что-то нехорошее, встала из-за парты и пошла на улицу. Учитель меня окликнул, помню… по имени. Он был последний тогда, кто меня по-русски позвал, по имени. Я сказала, что сейчас приду. Там, на улице, вроде ничего опасного не было. Я пошла в этот, в научный корпус. И, в общем, видишь… Они оба, рядышком, за микроскопами как сидели, так и сидели… Как заснули. Рядом с микроскопом голову на руку положили — и решили поспать… Я подошла… Они не спали. Они как будто там всматривались в предметные стекла снизу, будто с другой стороны хотели рассмотреть эти их препараты… Всю жизнь смотрели на них сверху, через микроскоп, а теперь вдруг решили снизу… будто весь мир перевернулся. И внимательно так смотрели…
Страхов крепко обнял Дрозофилу за плечо и осторожно встряхнул.
— Ничего, ничего, — сказала она. — Скоро уже все… Знаешь. Я сразу поняла, что их уже нет и что я теперь одна. Я тогда даже не испугалась и не плакала. Одна и есть одна. Как оборвалось. Наверно, я предчувствовала, что этот переезд из Питера чем-то таким ужасным закончится… Сначала я хотела пойти на ферму за помощью, но было жалко оставлять Мартина одного, я поехала на нем так, без седла. Наши собаки за мной увязались, это было хорошо, спокойнее. А на ферме я увидела то же самое. Все, где работали, там и остались… И смотрели куда-то очень внимательно, как будто что-то видели страшное, что я сама не видела. Я подумала, что весь мир такой стал, вернулась… а там уже другой урок. Химия! Учитель-индиец увидел меня и спрашивает, почему опаздываю и почему рабочее место не готово. Я ему говорю, что тут все умерли и меня нужно скорее отсюда забрать, а то, наверно, скоро гиенны придут… Он сначала даже не понял, переспросил. Тогда я сказала, что мои родители, наверно, умерли, а на ферме все уж точно умерли, и никого больше нет.