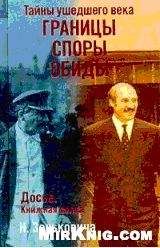Татьяна Мудрая - Костры Сентегира
— Отчего же так?
— Мягкое. И, случается, всё в угар уходит.
Диалог, который перешел на самые пронзительные тона, наконец обратил на себя внимание Карди, которая стала рядом со скинией для ночевки, чтобы послушать не слишком навязчиво.
— Вот как, — Сорди, чувствуя спиной то ли поддержку, то ли порицание своей болтовни, опустил на песок работу и выпрямился. — Любопытные забавки у вас.
— Не забавки. Насущное дело, — рассердилась девочка. — Знаешь, для чего нужна эта каменная мелочь? В сталь подмешивать. Вороные скимитары Даррана, алмазные жальца…
— Кинни, — страшным голосом перебил ее брат. — Это же секрет мастерства.
— Ф-фа! От того секрета все Лэнские Горы на семьдесят семь фарсангов кругом колышутся. Точного рецепта ни ты, ни я не знаем, остальное — корм для воронов.
— Отец бы так не сказал, — укоризненно проговорил юноша. — Ни его побратим. Они ведь нашей добычи ждут, чтобы начать работу над кирасой.
— Вот как? Так это кто семейные тайны перед чужаками расстилает, я или ты? Доспех современного рыцаря — давняя любовь Карима ибн-Карена бану Лино, — фыркнула девочка. — Потому что несбывшаяся.
— Кинька, в который раз! Хочешь на укорот нарваться? — возмутился мальчик. — И вообще, собирай снасти и пошли отсюда — толку не выйдет, от твоего языка вся вода взбаламутилась.
Кардинена, которая до того прислушивалась более-менее спокойно, на последних словах Карми встрепенулась и вышла из тени: клобук откинут назад, накидка распахнута, волосы светятся на солнце. А оружейного пояса нет, отметил Сорди. — Причём вместе с оружием — вот диво!
— Нет чести через воду перекрикиваться, — спокойно проговорила она. — Нет резона приятную беседу на полуслове обрывать. Юноша, тебя как зовут, Карен или Карим?
— Карим, — ответил он спокойней.
— А юную девицу знатного рода?
Девочка фыркнула.
— Кинчем бинт Карен бану Лино. Только я ведь не девушка.
— Как, уже? — Та-Эль картинно подняла брови. — Неужели вы оба — сговоренные супруги?
— Разумеется, нет… ина, — мальчик помялся, прежде чем титуловать ее на здешний манер. — Как можно? Мы ведь брат и сестра.
— Сходны, как березовое полено с головешкой, — кивнула Кардинена.
— От разных жен, — сухо пояснил Карим.
— И где обе ваших матери?
— Получили годичный талак и ушли в Вольный Город Лэн. Как одна гречанка по имени Лисистрата. Будет ли вежливым и достойным поинтересоваться, ради чего затеяны эти расспросы?
Вместо ответа Карди ступила в воду — как была, в плаще и ноговицах, — и через мгновение стояла среди детей, придерживая обоих за плечи. «Чтобы дёру не дали», — со странным чувством подумал Сорди.
— Имена все знакомые, — пояснила она с мягким добродушием, которое совершенно с ней не вязалось. — Кинчем Победоносная. Карен Рудознатец. И занятия. И, как ни удивительно, конкретная ситуация, но последнего объяснить не умею.
— А первое? — спросила Неудержимая На Язык Кинчем. — Первое вы объяснить сможете?
— Знала я их. И близко. Ближе, чем свою яремную вену.
— Цитата из Корана аш-Шариф, — наморщил лоб Карим. — Перевод незнакомый. А домашние прозвища вы тоже из-за него догадались?
— Гадать на Коране запрещено, — с важностью факиха ответила Карди. — Поищи рациональное объяснение.
— Сами дайте.
— Твой почтенный родитель под чалмой похож на буддийского монаха? И не носит бороды, хоть и непристойно такое у муслимов? — внезапно задала она встречный вопрос.
— Ой. И правда.
— А девочку назвал в честь боевой посестры?
— Как и его самого старший бабо Фатх… Откуда вы знаете?
— От таких, как ты, разговорчивых. Полагалось втайне именами меняться, клятву приносить, что главней названного брата для тебя не будет никого из смертных. Карен, для точности, мужское имя, побратима, но могло быть и женское — английское. Армян сюда, я так понимаю, во множестве заносило в процессе их великого спюрта. Ну а насчет британцев вообще гуляла присказка о портовых городах: «Давэйн от Ландэна близехонько: три буквы, две речки да один океан».
— А Кинчем? — требовательно спросила девочка.
— То, что я скажу, то не выдаст тебе разгадки. Мадьяры этой кобыле вообще памятник поставили — на погляденье всем туристам… Ладно, не след так долго с вами рассуждать. Идите к старшим, скажете: просят у них за кинтар золотых динаров — кинтар самоцветов для кархи, коей надлежит посвятить ученика в воины. И камень юного императора рутенского на перстень…хм… его гурии. Повтори!
Девочка изумилась, но повторила. На лице юноши отразилось робкое понимание.
Потом Кардинена вручила им кошелек с монетами и кивнула: отправляйтесь, да побыстрей. Поманила к себе ученика — собирай манатки, веди обоих коней сюда через воду.
— Ты загадала шараду, — заметил Сорди в затылки юной парочке. Теперь оба странника сидели рядом на гальке, держа подседланных коней в поводу.
— Именно. Камень Александра Второго Российского — александрит, я такой на руке в своё время носила, в богатой оправе из платины — виноградная лоза с листиками. Говорили — под цвет своих переливчатых глаз, в коих и небеса, и гроза, и пурпурный огонь временами проблёскивали. Но Карен и кое-кто еще знали, что как отличие. По большей части я его вообще крышечкой прикрывала — силт называлось. Перстень со щитом. Тогда уже все понимали, что вещица непростая.
— Гурия — гуру. Учитель.
— Который уже заботится насчет обручения своего челы с войной.
— Польщён.
На самом деле ничего такого он не испытывал, но выяснять отношения не хотелось.
— Однако, богата ты золотом лучшей чеанки.
— Бурый Волк позаботился.
Во время этого диалога, едва ли менее загадочного, чем предыдущий, Карди едва заметно улыбалась, и Сорди удивился — до чего это её красило.
— Ты радуешься? Кто они, эти дети?
— Портрет художника в юности. Двойной.
— Не совсем понял.
— Чего уж не понять? Карен и я сама.
И добавила мечтательно:
— Хотела бы я знать, кто у Карена нынче в огневых побратимах ходит.
— Что ты имеешь в виду?
— Чела напрашивается на урок.
— Конечно.
Они обернулись друг к другу и подарили друг друга гримасами заговорщиков.
— Ладно-хорошо. Всё равно еще ждать. Тогда вернемся, знаешь, в Замок Ларго. Эдинская тюрьма для политических. Облом со мной у них вышел тогда самый натуральный, сам понимаешь. Будь эти твари посдержанней с Майей-Реной, еще неизвестно бы, чем дело обернулось, а так…
Махнула рукой в сторону гор.
— Портить лицо и особенно губы побоялись, руки — тоже. Им от меня данные были нужны — сказать или написать. И вообще… Телесная красота в Динане дело святое и неприкасаемое. Сокровенное причастие Братству, как ты понимаешь, тоже. Оттого надо мной не так уж усердствовали: доработали до приличного случаю состояния и опустили в камеру-колодезь, так это называли. Поразмыслить на досуге.
Вот тебе картина пейзажа. Стены метров шести-семи высотой, воздух попадает через отдушины размером в кулак, вода стекает оттуда хилым ручейком. На полу жидкая мразь по щиколотку, еду бросают в нее через люк в потолке, а чтобы выйти, наверное, помереть надо. По крайней мере, на трупы я в этой темнотище не натыкалась. Кроме одного — но это особая история. Нет, не Ма. Дружок у меня там завелся из уголовных в перерыве между процедурами.
А тем временем наши одолели. Взяли столицу вместе с окрестностями и стали по ним шарить. Керт, Кертсер, хозяин степной сотни — вот он-то и приказал погрузить в колодец корзину с мощным фонарём на борту. Сначала пустую, затем с самим собой. Говорил, что те десять минут, пока меня со всякими предосторожностями поднимали наверх, а он ждал возвращения транспорта, были самыми худшими в его пятидесятилетней жизни. А я сама…
Открыла глаза в госпитале — он. Кажется, всё время там был, как фон моего обморока. Морда истемна-смуглая, короткие косы что горючая смола, тафья к ним будто прикипела — он ее и ночью не снимал, потому что шрам прикрывала. Такой, что, казалось, голову напополам чужой кархой развалило. Рот в клещах зажат, до того морщины глубокие. А уж слова вылетают из этих губ… Корявые, колючие, сухим комком в горле застревают — Сухая Степь, однако. Керт был родом не из регулярных частей, которые присягали новосозданному правительству: по доброй воле прибился и малую горстку таких же степняков привёл. Я ведь говорила о них кое что, да.
Потом он меня из госпиталя украл, едва ожоги зарубцевались и кости прикрылись мясом. Первое, что я ощутила, когда пришла в себя по-настоящему, — это как колышется моя люлька меж двух иноходцев. Подъезжали всадники, просовывали в меня еду, вливали питье. На привалах отвязывали, выпрастывали из пелен и грязных тряпок, мыли, перевязывали, Керт самолично разминал закоченевшие мышцы, разглаживал кожу. Волосы чесал железным гребнем и переплетал заново — оттого я почти сразу привыкла по-ихнему, по-чёрному, ругаться. А уж кумысу в меня влили столько, что все внутренности подплыли — туберкулёз, вишь, у меня прорезался. Начальная стадия. Кажется, не он один, но о том я узнать не успела… Потом меня стали привязывать уже к седлу одного из наших квадрипедантов.