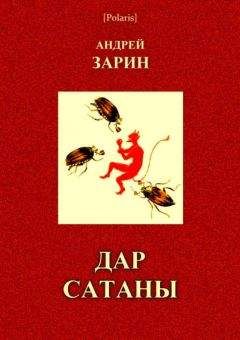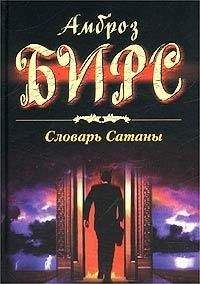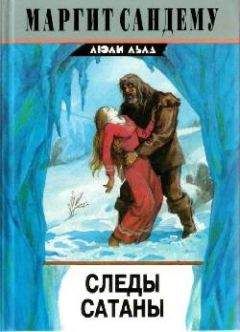Мир Сатаны - Андерсон Пол Уильям
— Нам нельзя заходить очень далеко, — сказала девушка, — а то мы можем заблудиться и долго бродить здесь, пока не найдем выход. Смотри.
Она показывала вглубь дома, в направлении места, от которого расходились пять других проходов.
— Это всего лишь край лабиринта.
Ворон потрогал стену. Она была податливой под его пальцами, тот же эластичный серый материал, которым был покрыт и пол.
— Что это? — спросил он. — Какой-нибудь синтетический эластомер? Он проходит по всему интерьеру?
— Да, — ответила Эльфави. Тон ее стал равнодушным. — Да здесь нет ничего. Давай поднимемся на одну из башен, тогда можно увидеть всю структуру.
— Одну минуту, если позволишь.
Ворон открыл одну из дверей ближайшего коридора. Она была стальной, как обычно, хотя покрыта мягким пластиком и имела внутренний засов. Комната за дверью проветривалась через прорезь-окно. Унитаз и водопроводный кран были единственной обстановкой, однако один угол был заполнен кучей набитых мешков.
— Что в них? — спросил он.
— Продукты, запечатанные в пластиковые мешки, — ответила Эльфави. — Искусственные продукты, которые хранятся бесконечно. Боюсь, вы будете не в восторге, когда нам надо будет жить на них, но сюда входит все необходимое для питания.
— Похоже во время Бейля вы живете как аскеты, — сказал Ворон, искоса наблюдая за ней.
— Это не время для заботы о материальных нуждах. Вместо этого хватаешь пакет, разрываешь ногтями, когда голоден, пьешь из крана или фонтана, когда хочешь пить, и просто ложишься куда-нибудь, когда хочешь спать.
— Понятно. Но что же это такое важное вы делаете, что даже сохранение жизни — это что-то несущественное.
— Я уже говорила.
Нервным, быстрым шагом она вышла из комнаты.
— Мы есть Бог.
— Но когда я спросил, что вы под этим подразумеваете, ты не смогла объяснить.
— Я не могу.
Она избегала его взгляда. Голос ее не был совершенно ровным.
— Разве ты не понимаешь, это вне языка. Любого языка. Человечество, кроме речи, как ты знаешь, используют и другие. Математика — это один, музыка — другой, живопись — третий, хореография — четвертый и так далее. И, судя по тому, что ты мне рассказывал, Гвидион кажется единственной планетой, где был разработан — обдуманно и систематично — и миф, как еще один язык — не примитивными людьми, которые путают его с понятием науки или здравого смысла, а людьми, подготовленными по семантике, которые знали, что каждый язык описывает одну единственную грань действительности, и которые хотели, чтобы миф помог им говорить о том, для чего другие языки были недостаточны. Ты же не можешь, например, поверить в то, что математика и поэзия взаимозаменяемы!
— Нет, — сказал Ворон.
Она откинула назад взъерошенные волосы и продолжала уже с воодушевлением.
— Так вот, то, что происходит во время Бейля, может быть описано только слиянием всех языков, включая и те, которые не может себе представить пока ни один человек. А такой супер-язык невозможен, потому что он был бы внутренне противоречив.
— Ты хочешь сказать, что во время Бейля вы воспринимаете или общаетесь с абсолютной реальностью?
Они снова вышли на воздух. Она поспешно прошла через форум, пересекая полосатую тень колоннады, к шпилям. Он никогда не видел ничего красивее, чем вид бегущей в лунном свете девушки. Она остановилась у входа в башню, накрывшую се темнотой, и оттуда, из темноты, сказала:
— Это просто другой набор слов, лиафа. Я бы хотела, чтобы ты сам был здесь и все узнал.
Они вошли во внутрь и стали подниматься. Мягкие, подбитые сходни вились вокруг небольших комнат. Проход был тускло освещенным и душным. После некоторого молчания Ворон спросил:
— Как это ты меня назвала?
— Что? — В темноте он не мог быть уверен, но подумал, что на лице ее выступил румянец.
— Лиафа. Этого слова я не знаю.
Ресницы ее дрогнули.
— Ничего, — пробормотала она. — Такое выражение.
— А-а, позволь отгадать. — Он хотел пошутить, предположив, что оно означает мужлан, варвар, злодей, но вспомнил, что у гвидионцев нет таких выражений. Так как она смотрела на него огромными, полными ожидания глазами, он должен постараться на ощупь. — Дорогой, любимый…
Она остановилась и в испуге отпрянула к стене.
— Ты сказал, что не знаешь! — Приученный за свою жизнь к дисциплине, он не остановился. Когда она догнала его, он заставил себя сказать:
— Ты очень добра, миротворец, но мне ничего так не льстит, как то, что ты нашла время для меня.
— Для всего остального еще будет время, — прошептала она, — когда ты уйдешь.
Самая высокая комната, сразу под куполом была единственной, где имелось настоящее окно, а не прорезь. Сквозь его бронзовую решетку лился лунный свет. Воздух был теплым, но этот свет производил впечатление, будто волосы Эльфави потрескивали от мороза. Она показала на замысловатые соединения лабиринта, башен и цветочных клумб.
— Шестиугольники, вписанные в круги, означают законы природы, — начала она приглушенным голосом, — их система вложена в некую более крупную схему. Это знак Ована, Кузнеца Солнца, который… — Она замолчала. Ни он, ни она не слушали. Под отраженным светом луны оба всматривались в лицо друг другу.
— Тебе обязательно уходить? — наконец спросила она.
— Я давал обещания дома, — ответил он.
— А когда они все будут выполнены?
— Не знаю.
Он рассматривал чужое, незнакомое небо. В южном его полушарии, которое находилось в стороне, откуда он пришел, созвездия не будут так изменены. Но в южном полушарии никто не жил.
— Я знал людей из одного мира, одной культуры, которые пытались обустроиться в другом, — сказал он. — Это редко получалось.
— Может получиться. Если бы было желание. Гвидионец, например, мог бы быть счастлив даже на… ну, на Лохланне.
— Интересно.
— Ты смог бы для меня кое-что сделать?
Пульс его участился.
— Если смогу, миледи.
— Допой мне песню. Ту, что ты пел, когда мы встретились в первый раз.
— Какую? Ах, да — «Беспокойная могила». Но ведь ты не могла…
— Я попробую еще раз. Раз она так тебе нравится. Пожалуйста.
Он не взял с собой флейты, но тихо запел под прохладным светом:
— Любовь моя, это я тут сижу
И лишаю покоя и сна.
Любовь моя, все, чего я хочу —
К твоим прикоснуться губам.
— Мой милый, к моим прикоснуться губам?
Но на них — дыханье земли.
Если лишь раз прикоснешься ты к ним,
То дни твои сочтены.
— Нет, — сказала Эльфави. Сглотнув воздух, она обняла себя руками, стараясь согреться. — Извини.
Он снова вспомнил, что на Гвидионе не было трагического искусства. Никакого. Интересно, что бы с ней сделали Лир, или Агамемнон, или Старики на Центавре. Или даже что-нибудь из реальной жизни: Вард из Адской Долины, восстающий за честь семьи, в которую не верит, побежденный и убитый своими же товарищами; молодой Брэнд, который нарушил свою полковую клятву, бросил друзей, богатство и возлюбленную, которую любил больше солнца — чтобы жить в крестьянской хижине и ухаживать за своей безумной женой.
Интересно, а он сам — все ли у него в порядке с головой, чтобы жить на Гвидионе?
Девушка потерла глаза.
— Нам лучше вернуться вниз, — безжизненно сказала она. — Скоро проснутся остальные. Они не будут знать, что с нами.
— Поговорим попозже, — сказал Ворон. — Когда не будем такими уставшими.
— Конечно, — согласилась она.
Глава 7
Дождь пошел на следующий день; первые грозовые тучи нависли над Колумкиллом как иссиня-черный гранит, серовато-синий свет в пещерах, затем ливень и завывающий восточный ветер, и наконец расслабление, когда гвидионцы обнаженными шумно резвились на траве, блестевшей под лучами солнца, пробивавшимися сквозь потоки воды. Толтека вступил в игру, такую же энергичную как те, в которые он когда-либо играл. Потом они бездельничали внутри, возле импровизированного очага, сложенного из камней, и рассказывали байки. Люди слушали его воспоминания с ненасытным желанием побольше узнать о галактике. Взамен у них были свои рассказы, никаких межчеловеческих конфликтов — они, казалось, были озадачены и встревожены этой идеей — но достаточно живые события в море, в лесу, на горах.