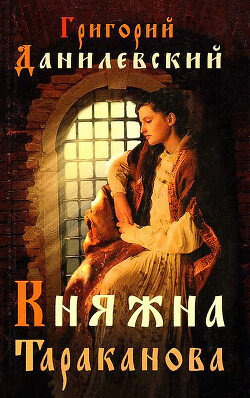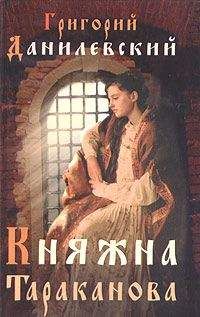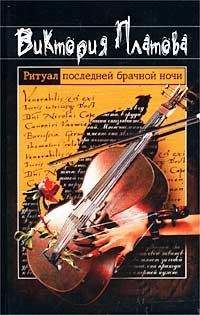Княжна Разумовская. Спасти Императора (СИ) - Богачева Виктория
Пройдут эпохи, сменятся правительства, судьба страны перевернется множество раз, а Большой театр по-прежнему будет стоять на том же самом месте, величественный и поражающий своей красотой. И также будет собираться очереди из желающих его посетить, также каждое представление будет вызывать невиданный ажиотаж и заканчиваться громом аплодисментов...
— Неужели ты доросла до театров, Варвара?
Сухой голос Киры Кирилловны разом разрушил все волшебство.
Я досадливо поморщилась, отодвинулась от окна и вновь откинулась на сиденье, сжав в руках веер. Тетушка поджала губы, и я сделала то же самое.
В таком молчании мы и доехали до особняка, в котором располагался салон Долли Голицыной. Иными словами, до места, где аристократы встречались и выпивали, и сплетничали под предлогом обсуждения литературы.
Лакеи в черных ливреях встретили нас возле кареты и проводили к дому через освещенный, густой сад. В дверях гостей приветствовал сама хозяйка: графиня Дарья Тизенгаузен, которую все называли Долли. Это была высокая, худощавая женщина лет тридцати в зеленом платье темного, насыщенного оттенка, что на свету отливал изумрудным. Ее черные волосы были убраны высокую, мудреную прическу. Над верхней губой у нее была родинка, но это ничуть ее не портило.
Когда мы поднялись по ступенькам, и женщины поцеловали воздух возле щек друг друга, меня обжег холодный, чуть насмешливый взгляд графини Тизенгаузен.
— Не будет ли юной княжне скучно среди нас? — поинтересовалась она у Киры Кирилловны таким голосом, когда в вопросе уже заранее прозвучал ответ.
— Не будет, — отрезала тетушка, и мы прошли внутрь, сопровождаемые усмешкой графини.
Особняк показался мне более тусклым, чем дом князей Разумовских. Он был более кулуарный и менее помпезный. Меньше размером, чуть беднее убранством. Комнаты были слабо освещены, и атмосфера располагала к долгим разговорам в полутемных гостиных за коньяком и курительными трубками.
Мы шли по бесконечным коридорам, и мимо мелькали бесконечные лица: эти люди меня уже знали, я же всех видела впервые. Наконец, в последней комнате после длинной анфилады Кира Кирилловна остановилась. Внутрь набилось множество людей, но, конечно же, никто из них не показался мне знакомым, и уже в который раз я остро почувствовала свое одиночество.
Тетушка опустилась на самый краешек дивана, держа спину идеально ровной, и я рухнула в ближайшее к ней кресло. Она сияла и лучилась довольством: мужчины тотчас подорвались поцеловать ей ручку, кто-то предложил бокал с алкоголем. Она приветливо всем улыбалась и щебетала.
— Как ваша дражайшая супругу, граф Воронцов?
— Ах, да-да, этот климат… пора, непременно пора на юг, на воды. Пока окончательно не пришла осень.
— Как поживает Лизанька? Здорова ли?..
При всей моей неприязни к женщине, которая притащила меня сюда силком, не восхищаться ею в тот момент было трудно. Прирожденный аристократизм, помноженный на многолетнюю выучку и привычку.
Со мной тоже пытались заговорить — из вежливости. Я отвечала холодно и сквозь зубы, и от меня вскоре отстали. Кира Кирилловна поглядывала на меня с неодобрением.
Не понимаю, на что она рассчитывала!
Я понемногу освоилась и привыкла: и к духоте, и крепкому аромату табака, и к полутемной обстановке, и множеству голосов и лиц, и к собственной удушающей одежде. Начала прислушиваться к разговорам, которые из праздных сделались довольно любопытными: обсуждали последние новости из Франции и Англии, говорили немного про войну, про процесс освобождения крестьян…
И вскоре я поняла, что уже не просто прислушиваюсь, а внимательно слушаю, стараясь не пропустить ни слова.
Гром грянул неожиданно. Лакей распахнул высокие, тяжелые двери и громко, почтительно объявил.
— Их Сиятельство князь Хованский!
Резкий вздох раздражения вырвался из груди. Услышав, Кира Кирилловна бросила на меня укоризненный взгляд.
Мой жених — это слово скрипело на зубах — вошел и поприветствовал всех учтивым, изящным полупоклоном. Вместо черного суконного фрака и рубашки с туго накрахмаленной грудью, которые носили почти все присутствующие мужчины, князь Хованский прибыл в салон в мундире с золотыми эполетами. Ну, что за позерство!
Я отвернулась, тряхнув прической. Не хотела на него смотреть.
— Прошу простить за вид… я только из Собрания… — до меня донесся его грудной, рокочущий голос, и я фыркнула.
Подумаешь. Из Собрания.
Конечно же, он подошел оказать строго необходимое внимание семье своей нареченной: пришлось вставать и склонять голову, и подавать ему ладонь, которую он даже не поцеловал: лишь пощекотал воздух над кожей и опалил ее теплым дыханием.
— Как ваше здоровье, графиня? — отпустив мою руку, Хованский полностью переключил внимание на Киру Кирилловну.
Мне бы выдохнуть с облегчением, а я отчего-то почувствовала себя глупо. Наверное, повлияли и насмешливые взгляды, которыми меня обожгло со всех сторон. Подобное пренебрежение невестой не могло остаться незамеченным. И князь это знал. Не мог не знать.
Решив, что стоять рядом с ними столбом — это совсем унизительно, я опустилась обратно в кресло. Хованский не уходил нарочно, я была в этом уверена. Они с тетушкой успели обсудить здоровье и климат по нескольку раз, поговорили про возвращение моего отца — трижды! Даже когда темы себя исчерпали, он стоял возле кресла и дивана и мозолил мне глаза, а сам не смотрел в мою сторону.
К счастью, его вскоре отвлекли. Я задохнулась от горечи, когда увидела, кто.
Хозяйка вечера — Долли Тизенгаузен — усадила князя рядом с собой на низкий, тесный диванчик. Столь тесный, что они оказались друг к другу прижаты. Его бедро касалось складок ее платья. Женщина принялась о чем-то мило щебетать, активно жестикулируя руками. Она рассказывала что-то смешное. Она смеялась, и князь Хованский сдержанно улыбался.
Чертов диван стоял ровно напротив кресла, в котором я сидела, и я не знала, куда деть взгляд, чтобы не смотреть на них. В какую бы сторону я ни поворачивалась, всюду сталкивалась с чужими насмешками. Тонкими, умело замаскированными под улыбками, но такими же ядовитыми, как укус змеи.
Они ранили сильнее, чем мне бы хотелось. Сильнее, чем я ожидала.
Столь открытое пренебрежение было жестом. Было вызовом. Князь Хованский не мог не знать, что он творил. Он делал это сознательно. И все, кто собрался тем вечером в комнате, это прекрасно понимали.
Он надсмехался над своей невестой.
Наверное, княжна Варвара была не очень хорошим человеком, раз не нашлось ни одного доброго лица среди множества людей.
Ни одного сочувственного взгляда.
Лишь насмешки, насмешки, насмешки.
И сладкая улыбка Долли Тизенгаузен. И ее тонкое, изящное запястье, порхающее по эполетам и золотым пуговицам на мундире моего жениха. И его надменное, гордое, злое, красивое лицо.
Я принудила себя не смотреть в их сторону и решила отвлечься на бурную дискуссию, которая развернулась на соседних диванах. Обсуждали Францию: в 1866 году как раз шла эпоха Второй Империи, которая очень скоро — уже в 1870 — сменится Третьей Республикой.
До московских салонов дошли новости, что Наполеон III предоставил рабочим право на стачки, иными словами право на забастовки.
— Чудовищная, чудовищная ошибка, — сотрясал воздух своим возмущением очень пожилой мужчина. — Слава Богу, что у нас такое и представить невозможно! Какие им еще нужны права? Арест — ссылка — Сибирь!
— Петр Иванович, голубчик, не горячитесь, — успокаивающе произнесла Кира Кирилловна. — Что поделать… они ведь тоже люди. Может, есть здесь зерно разума…
— Да помилуйте! — воскликнул старик. — Какое зерно разума? Таких смутьянов нужно в зародыше выкорчевывать! Как убивают больных щенков в помете у породистой суки!
Его слова покоробили меня до глубины души. Я впилась ногтями в ладони и прикусила язык.