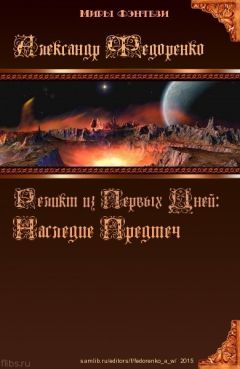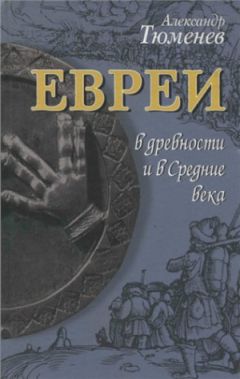Александр Шуваев - Книга Предтеч
Беспамятство его незаметно перешло в сон, а проснулся он только утром в апельсиновом свете здешней зари, когда среди тростника еще прятались остатки утреннего тумана. Лежа на высоком дощатом помосте под легким навесом, без сил, он угрюмо думал о смысле вчерашнего. Да неужели же любые возвышенные стремления и духовные искания в конце концов так и сводятся к наслаждениям сильного и неутомимого тела? И жизнь вечная, вечная молодость, атрибут и привилегия богов, сводится, в пределе мечтаний, в МАТЕМАТИЧЕСКОМ пределе своем, - к экстазу? К чему-то вроде, - скажем так, - непрерывного оргазма? Господи, да если это так, то к чему же Тебе нужно было создавать разум? И, если продолжить логическое развитие этой темы, - зачем Тебе вообще было нужно вытаскивать из абсолютного, беспамятного небытия сами предпосылки этого самого разума, если он только и стремится туда, к черно-огненному, бездумному, ослепляющему и оглушительному восторгу, что обрывает всякое восприятие? А, однако же, это не просто логическое развитие темы, это развитие ТОЙ САМОЙ темы, и он лучше кого бы то ни было знает, как это выглядит при достаточном приближении. И чего, собственно, он так уж разошелся, - чего было-то ? А ничего и не было, а если Он находит нужным награждать своих тварей, то в этом больше мудрости, чем во всех их рассуждениях на эту тему. А, собственно, не в этом ли и заключается смысл аскезы? Того, что чэньчун Лэньпоче иначе, по-своему, называл Малым Искусом? Люди сознательно отказываются от всего, обычно именуемого радостями жизни, от чувственных удовольствий для того только, чтобы выяснить, какие стремления возникнут у них самих при этом условии, да еще через сравнительно долгое время? Выходит, исходный, многими позабытый смысл всего этого именно такой? И иначе - никак? Получается странная аналогия с аналитической химией: точно так же, как химик отделяет от смеси чистое вещество, чтобы выяснить его собственные свойства, подвижники стремились, с разным успехом, выделить из человеческого существа в чистом виде исключительно то, что отличает человека от всех живых существ. Да, опять совпадение с тем, что говорил декан: прежде всего определить истинную цель. В данном случае - определить, что составляет собственно-человеческие, от всех других отличные цели. Что ж: вопрос о пригодности средств стоит отдельно, а сама по себе цель заслуживает определенного уважения. По ходу этих, и кое-каких иных рассуждений кровь в жилах начала двигаться заметно быстрее, он шевельнулся и оглядел себя. Тело его было укрыто подобием плотного зеленого войлока с торчащими из него тоненькими стебельками, кое-где даже пустившими крохотные листочки, рядом лежала аккуратно свернутая одежда, а внизу, сквозь щели редкого настила виднелась вода одного из бесчисленных мелких озер Страны Цирлир. После буйного помешательства минувшей ночи все, окружавшее его сейчас, казалось особенно реальным, определенным, прочным, со строго очерченными контурами. И тростники, - точно, как в том самом сне с надлежащей поправкой, - казались начертанными бестрепетной и беспощадной, как десница самурая, рукой художника средневековой Японии, когда каждая метелка - единственно-возможным, исполненным недоступного изящества ударом кисти. И тем же изяществом уникального, гениальной случайностью веяло на него этим утром от очертаний тонко прорезанных берегов этого озерка и соседних к нему. И вся картина здешнего утра, вовсе лишенная роскоши, вдруг показалась ему просто мучительно-прекрасной. Впрочем, уместный намек на роскошь все же был: тон лилового неба твердо обещал жаркое безветрие истинно-летнего дня, лучшее, что вообще может предложить человеку прохладная и тенистая Страна Цирлир. К низкому мостику у самой воды вела легкая деревянная лесенка, на брусчатых перекладинах которой сушились, застыв в неподвижности, тонкие сети, а у мостка застыли, словно нарисованные, две легкие, как опавшие листья, лодки. А поднявшись на ноги, он тут же возвысился и на миг показался себе великаном от высоты, с которой бросил теперь беспомешный взгляд на плоский водяной мир вокруг. Тут где-то под его ногами едва слышно плеснуло, и в мостик ткнулась еще одна лодочка, в которой сидела та, кого он так и не догнал минувшей ночью. Теперь на ней была свободная рубаха без рукавов и широкие, до середины икры штаны, пламенеющие буйными красками осенних листьев. Миг - и она уже карабкалась вверх по лестнице, прижимая к груди объемистый пакет.
- Ты живой?
- Знаешь, после моего ухода из отчего дома этот вопрос просто-таки преследует меня... Кто только не задавал его мне по всяким-разным поводам.
- Это хорошо, что живой. На. Это мама прислала.
- О, спасибо, - проговорил он, доставая из листа крупные куски какой-то печеной рыбы, - компанию составишь?
- Я уже. Ты давай, ешь веслоноса, да отправимся на Средний Котел.
- Почему на средний?
- Потому что еще есть Большой и Младший.
Глядя на нее искоса, не прерывая процесса уничтожения несчастного веслоноса, запеченного по особой технологии прямо в коже, вдруг поймал себя на мысли: а вот что бы он стал делать с этим существом, ежели бы ночная охота - да удалась? Ведь подумать страшно теперь, о каких-то не вполне товарищеских отношениях - с этим. Да он даже представить-то себе не может ее в роли любовницы... Других - так вполне, а вот ее никак. Что-то вроде кощунства выходит, так что ничего хорошего не вышло бы уж точно... И, наверное, не выйдет. Тяжко оно со святынями-то.
XX
Обычно я ограничиваюсь Охвостьем или опушкой, но в данном случае у нас было Дело и я случаем воспользовался. Мы пришли в самое сердце телли, где вечно царит глубокий сумрак, а чудовищные деревья напрочь закрывают небо необъятными кронами. Кроны эти как тучи смыкаются над одинаковым во всех Следах Гуннара небольшими, бездонными озерами кромешно - темной воды. Вокруг этого растительного купола - деревья тоже весьма порядочные, и оттого в сердце телли стоит абсолютное безветрие и ватная тишина. Из озера, как и обычно вытекало не то четыре, не то пять ручьев и только журчанье воды нарушало эту тишину, и странным образом не могло нарушить, она даже казалась более глубокой от этого журчания, а мы стояли на берегу и боялись дышать. Пресловутым Делом, предлогом к этому визиту, была некоторая необходимость восполнить запасы воды. Мы оперативно свернули сорок кубометров, из них девять - сразу же наладили в бак, чтоб, значится, не возиться, а остальное так и оставили в свернутом состоянии, а потом Мушка пожелали купаться, но и это получилось на этот раз достаточно своеобразно: мы не шумели, не плескались, и вообще старались вести себя по возможности тихо, не поднимая брызг. Дно здесь понижалось хоть и неуклонно, но достаточно полого, не так, чтоб шагнул, и прям сразу с головкой. Под конец я перевернулся на спину и, замерев, смотрел в непроницаемый лиственный полог над своей головой. Там бесполезно даже пытаться лежать на воде подолгу: теченье движется из середины - расходящейся спиралью, площадь - невелика, и поэтому вода довольно быстро выносит тебя на отмель, где тихо-тихо, не пытаясь приставать и (временно!) позабыв о Призвании, на мелководье бездумно валяется моя порядком подзагоревшая любовь. Вылезли, под руку вышли по единственной, - как и во всех виданных мною телли, - торной дороге к "катку" и совсем было уже собрались отправиться дальше, как неподалеку послышался характерный звук конского кентера, и из-за кустов Охвостья показался одинокий всадник на гнедой кобылке. Я на всякий случай подтолкнул Мушку в спину, чтобы побыстрее проходила внутрь, а сам, - стоя вполоборота, одна нога - на ступеньке, - стал дожидаться всадника. Потому что мало ли что может быть человеку нужно? Был он моих приблизительно лет или, разве что, малость помоложе, потный, запыленный и, - по крайней мере с виду, - без оружия.