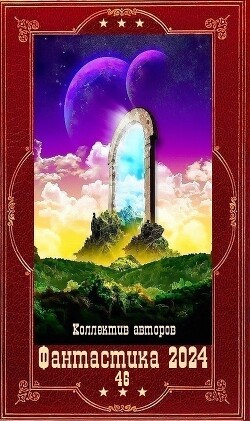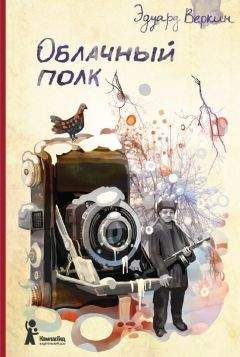Сорока на виселице - Веркин Эдуард Николаевич
Иногда я слышу далекие голоса, кто-то в глубине стеллажей ведет спор, я иду на звук, голоса начинают блуждать, рассыпаются, становятся неразборчивыми, теряются. У меня все признаки библиопаники.
Иногда я нахожу медные узлы – на полках, возле световых колодцев, в книгах.
Разумеется, я слышу шаги.
Я знаю, что Барсик мертв, однако шаги его остались, в северо-западном углу, там, где преимущественно буква «Ф» и часто пахнет пластиком. В сумерках я понимаю, что это эхо. Что это мои шаги, заблудившиеся вечером в бесчисленных переплетах, отраженные от стен, от колонн и кривых поверхностей, вернувшиеся в сумерках. Но едва наступает темнота, я начинаю верить, что это Барсик. Он жил здесь и успел оставить след.
Бывают дни, когда настроения работать нет, в такие дни я не читаю. Книги нужно читать, это главная задача любого библиотекаря, но иногда читать невозможно. Магнитные бури, бушующие над планетой, излучение, поднимающееся от ядра через пустоты, не знаю, в некоторые дни мне не хочется слов. Я вспоминаю, я думаю. Здесь необычайно легко думается.
Бывает, что я беру ховер и отправляюсь в тундру, на север. Иду над Иртышом до океана, тысячу километров, до места, где ледники сталкиваются с айсбергами, где стоит постоянный гул, грохот, я сижу на берегу и разглядываю прозрачную воду.
Иногда я лечу дальше, возвращаясь домой через день.
Ван Несс закрывает на это глаза, ему сейчас приходится на многое закрывать глаза. К моменту нашего прилета на Регене было двести тридцать человек. Сейчас здесь восемьдесят три, включая меня.
В прошлом году в начале весны члены расширенной комиссии Мирового Совета должны были прибыть на Реген, но их нет до сих пор. Ван Несс, сменивший Штайнера в кресле руководителя Института, считает, что продолжать эксперимент до того, как будут получены результаты работы этой комиссии, нецелесообразно, более того, Ван Несс подозревает, что на практические исследования в области синхронной физики наложен негласный мораторий, на какой срок, сказать сложно. Инцидент на Регене окончательно качнул маятник общественных симпатий, земляне устали от синхронистики, от неисполненных обещаний, от обманутых надежд. А попытка форсировать изыскания посредством фермента LC стала фактической росписью в собственной беспомощности. Разумеется, Институт Пространства делает все для восстановления пошатнувшегося авторитета нашей науки, однако уже сейчас можно констатировать, что синхронная физика оказалась в опасной близости к границе, за которой в душной и липкой мгле копошатся астрология, энергопатия, криптологика.
Что дальше?
Мы ждем.
Наберитесь терпения.
Порой я неделями не встречаю никого, кроме Кассини.
Кассини долго болел, мне пришлось присматривать за ним, первые месяцы Кассини лишь спал и плакал. Потом ему стало лучше.
Кассини бродит среди стеллажей, неразборчиво бормоча и всхлипывая.
Ледяное сиротство, как любой, увидевший пылающий куст, остановиться Кассини не может, дорога без конца, жребий отрекшегося, цена неба.
От левого глаза вверх по черепу пролегли две глубокие вертикальные морщины, у него бессонница; он просыпается еще затемно и отправляется бродить по Институту, дряхлый, сутулый, нелепый, неожиданно миновавший своего Тесея. Он обходит коридоры, добирается до Объема, спускается в библиотеку, обычно к обеду.
Каждый день он уходит все дальше, и я подозреваю, что надеется затеряться, не вернуться, умереть, сойти в пергамент, пресуществиться в картон и бумагу, в свет, в стены, но облегчения ему не будет.
Кассини постарел, и, скитаясь по коридорам, приобрел привычку к бесшумности, к внезапным появлениям. Он неожиданно возникает вдали, пересекает мой путь быстрой тенью, выступает из книжных полок, словно сходя со страниц, поджидает за углом, иногда я нахожу его лежащим у стены, он спит, от него, что совершенно поразительно, исходит прохлада. Он разбрасывает книги, роняет их с полок, а я расставляю их по местам, Кассини сердится, он стал еще раздражительнее. Каждый третий вечер Кассини приходит ко мне с намерением признаться, в этом нет никаких сомнений. И каждый третий вечер он не решается, и это не стыд, это страх, что я не поверю.
Он вслушивается в библиотеку, молчит, потом рассказывает, обычно про своих учеников, разочаровавших его, растерзавших его грудь, растоптавших его ребра, пустивших стрелу в спину, привесивших камень на шею, не оправдавших надежд, безнадежных, любимых. Потом он снова молчит. Мне не нужно его признание, оно ничего не исправит, мне нет дела до его вины, до его раскаяний, наш спор продолжается.
Небо стоит мессы, скажет он. Иногда надо закрыть глаза, скажет он, иногда достаточно отвернуться. Не разбив яйца, не накормишь голодных, не замочив ног, не перейдешь реку, чьи кости лежат в основании моста? Чья душа разорвана радугой?
Беда с тобой, Великий Шорник, скажу я.
Кто ты, чтобы судить, закричит он.
Кто ты, чтобы обвинять, заплачет он.
Наш спор продолжается… Хотя это давно не спор.
Кассини собирается писать книгу. Про синхронную физику и ее несчастных героев, он предлагает названия.
Небо над Регеном: к бездне.
Отблески.
Пламя над бездной.
Малое молчание.
Его названия недостаточно хороши. И я знаю, что он никогда не напишет книгу, думаю, он и сам это знает.
Кассини спорит сам с собой, кричит, размахивает руками, ходит вдоль книжных стеллажей, прислоняется к стенам, прислоняется к свету.
Сойер ошибался, говорит Кассини. Красота существует вне человека, но вне человека не существует добро, и здесь, именно здесь кроется проклятый дождливый ключ, вопрос, отвеченный раньше. Задача человечества – максимальное удаление от зла, и в наши дни задача эта стоит особенно остро, осталось пройти недолго, но это самые сложные метры, и каждый шаг дастся с кровью и отчаяньем, ты пойми!
Человек был прикован к земле, прикован буквально, что есть гравитация, как не ошейник, положенный нам с рождения? Ты же помнишь? Мастер Крыла в одном из писем к брату заметил, что отрыв от земли стал возможен отнюдь не из-за прорыва в технике, думать так исключительно глупо. Человечеству был позволен воздух по единственной причине – уменьшение зла. Гуманизм, Просвещение, предчувствие грядущей эры. Зло и гравитация – явления одного порядка, и то и другое преодолимо…
Кассини постарел, его взгляд стал острее и прозрачнее, но способности к анализу заметно снизились; Кассини старательно не задает нужные вопросы и часто плачет, его пугают ответы.
Горе сыну, осмеявшему отца, бормочет Кассини. Проклятие отцу, предавшему сына, плачет Кассини. Да пребудет синхронная физика, ибо иного пути нет, горе слепцам, отрицающим явное…
Дель Рей, обобщая собранные материалы, заключал, что красота и синхроничность связаны незримыми нитями; синхроничность, как одно из частных проявлений мира идей, немыслима вне красоты, уродливое не может взойти в мир идей, отсекаясь в небытие платоновским фильтром. Сойер был прав, прав…
И Дель Рей, и Сойер, конечно, ошибались, полагая, что ключ в красоте, красота важна, однако красота есть соль. Наивные дети великих побед самоуверенно утверждали, что вне человека красота не существует, однако это не соответствует истине – красота была до нас и останется после. Умножение красоты, обретение красоты, завоевание красоты, вспомни, вспомни тот самый портрет с рыбой в руках…
Кассини спорит со стенами, задает им вопросы, отвечает собственному эху, удивляется ответам. Учитесь задавать вопросы, повторяет Кассини, вопросы есть суть победы, ответы есть прах поражений.
Библиотека наполнена книгами, шепотом, потерянными головоломками.
Вопрос не в том, для чего нам прорываться сквозь пузырь великой тиши, вопрос в том, почему мы не можем этого сделать. Почему мы, предназначенные небу, не можем до него добраться?
Я догадываюсь, с какой целью остался Кассини, Кассини надеется, что я продолжу.
Выдохни зло – и воздух выдержит тебя, так говорил мастер, в последнее утро примеряя к плечам нелепые бумажные крылья. Та же ошибка, что через два столетия погубит Сойера, погубит Дель Рея, протянувших роковую и гениальную нить к черно-белой птице, поверив в воздух, не допусти эту ошибку…