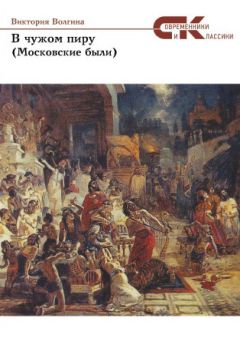Вячеслав Рыбаков - На чужом пиру, с непреоборимой свободой
Кажется, крыша едет.
Все, берем себя в руки. Чем-то сейчас порадует Никодим?
— Ну, я уж думал, вы передумали, — шмыгая носом, сказал он. Врачу, исцелися сам. — Идемте.
— Вы можете толком сказать, в чем дело? Я теперь в таком состоянии, Никодим Сергеевич, что запросто укусить вас могу. И мне ничего не будет, потому что я маньяк.
Он, похоже, и не вслушивался. Сопел и тащил меня за рукав в палату, как муравей соломинку.
— Идемте, идемте…
Похудевший, заросший по щекам редким и длинным серым ворсом Сошников сидел на кровати, храбро глядя в неведомую даль.
— Ну? — спросил я. Убью Никодима, убью…
— Да вы что? — возмутился Никодим.
И тут до меня дошло.
Сошников МОЛЧАЛ.
На его подбородке и недоразвитой бороде не было ни малейших признаков слюны. И он не пел свою проклятую «Бандьеру». Губы его были вполне осмысленно сжаты, и он смотрел. Слепые глаза не болтались расхлябанно туда-сюда, а всматривались во что-то впереди.
— Никодим Сергеевич… — обалдело прошептал я. Почему прошептал — понятия не имею. От благоговения, по всей вероятности. Боясь спугнуть чудное виденье.
— Ну! — воскликнул Никодим с восторгом и тоже вполголоса. — Врубились? То-то. Я днем прихожу… Молчит. Молчит! И вы знаете — смотрит! Вы в глаза-то ему загляните!
Я сделал шаг влево и чуть нагнулся, чтобы лицом попасть прямо в поле зрения Сошникова. Несколько мгновений он ещё вглядывался в свое прекрасное далёко — а потом его взгляд ощутимо зацепился за меня. Неторопливо и пытливо пополз, осматривая мою, кажется, щеку; потом лоб.
— Смотрит… — прошептал я.
— Угу, — прошептал Никодим.
— Говорил что-нибудь?
— Нет. Просто молчит. Рот закрыл. Смотрит.
— Добрый вечер, — отчетливо и мягко произнес я. — Добрый вечер, Павел Андреевич.
Губы Сошникова шевельнулись. Он величаво — совсем теперь, к счастью, не думая, насколько он смешон или жалок — поднял худую руку, нелепо торчащую из необъятного рукава больничного халата, и тонкими пальцами взял меня за плечо. Так могла бы взять меня за плечо синица.
— Спаситель, — немного невнятно сказал Сошников.
— Ё-о-о… — потрясенно высказался Никодим и сел на пустую койку позади.
Я накрыл холодные, влажные пальчики Сошникова своей ладонью, продолжая глядеть ему в глаза. И он продолжал меня разглядывать.
— Ну какой же я спаситель, — негромко и спокойно проговорил я, не шевелясь и не отводя взгляда. — Я, Павел Андреевич, в лучшем случае просто предтеча.
— От скромности вы не умрете, Антон Антонович, — ехидно шмыгнув, сказал у меня за спиной Никодим.
— Я от неё уже умер несколько лет назад, — не оборачиваясь, ответил я все так же негромко. — Теперь я просто зомби.
— Зомби тоже может играть в баскетбол, — понимающе шмыгнул Никодим.
— Во-во.
— Спаситель, — повторил Сошников уже четче.
Я вернулся домой в начале десятого, как-то странно успокоенный и умиротворенный. Вряд ли Сошников поправится полностью. Возможно даже, что он придет в себя именно настолько, чтобы осознавать бедственность своего положения, и не более. Это будет для него лишь ужаснее. А может, и нет, может, я чересчур мрачно смотрю. Во всяком случае, хоть что-то сместилось к лучшему, хоть на миллиметр — и оттого на душе полегчало. И даже некая символичность тут мерещилась: уж если даже он, вконец одурелый, после буквально нескольких дней не Бог весть какой златообильной, зато искренней человеческой заботы все же перестал бубнить, как заведенный, про красную бандьеру и сдюжил осмысленно сфокусировать взгляд — может, и все мы раньше или позже сможем? Во всяком случае, мертвенная измотанность моя превратилась в здоровую усталость, от которой хочется много есть и долго спать. А для меня уже и это теперь было блистательным достижением.
Хорошо, что Никодим меня заставил приехать в больницу.
Рассеянно и с некоторой даже ухмылкой мурлыча себе под нос «Бандьеру», я принялся ляпать себе торопливую яичницу. Потом, поразмыслив, достал из холодильника ломтик сала, который приберегал для ситуаций, когда есть надо шустро и сытно, и мелко порезал, чтобы спровадить в сковородку. Говорят, еда — естественный транквилизатор. Вот мы и накатим вместо колес.
Когда я поднес ко рту первую ложку жарко и вкусно дымящейся пищи, зазвонил телефон. Я аж ложку выронил, подскочив на стуле; первой мыслью было: Бероев! Взяли?!
— Антон, ты дома? — сказал из трубки голос Киры.
Замученный голос. Без жизни, без света…
— Да, — сказал я.
С учетом того, что звонила она не по мобильному, это явно был уже разговор двух сумасшедших.
— Ты можешь разговаривать?
— Вполне.
— С тобой все в порядке?
— Конечно. А ты? У тебя голос больной, Кира…
— Что ты думаешь с этим делать?
— В суд подавать, — сразу поняв, о чем она, наотмашь ответил я. — Знать бы только, какая зараза стукнула. Ждать мне ещё утечек, или это все.
— Это все.
— Откуда ты знаешь? — оторопел я.
Она помолчала.
— Антон, это я.
— А это я, — ответил я, ещё не понимая.
— Это я стукнула. Так получилось. Если ты сможешь со мной общаться теперь, я тебе потом расскажу подробно.
Я не стоял, а уже сидел. И сказать «Ё-о-о!» в беседе с женою не мог. Поэтому просто одеревенел.
— Антон, — позвала она.
— Да, Кира. Я тут, тут.
Но я уже был не совсем тут. Не весь. Я уже думал о том, как я сам-то от великой мудрости и доброты сдал её какому-то там Кашинскому; и попробовал бы я объяснить ей, как это произошло.
— Не надо рассказывать подробно, — сказал я.
— Антон.
— Да, Кира.
— Знаешь, говорят, если кого-то простишь, то как бы становишься к нему гораздо ближе. Можно даже опять полюбить того, кого простил. Ты не хочешь попробовать меня… простить?
Все-таки общими усилиями они довели меня до слез нынче. Отчаянно защипало переносье, и в углы глаз будто пипеткой накапали кислоты.
Я проглотил тяжелую, разбухшую пробку в горле и сказал:
— А ты меня?
— А я тебя уже простила. И, ты знаешь, люди все правильно говорят. Так и получилось. Полюбила.
Я молчал и только, будто Никодим, шмыгал носом, стараясь делать это как можно аккуратней и тише.
— Знаешь, я вдруг сообразила наконец, что за тебя отвечаю. Даже если мы поссоримся, все равно отвечаю. И рождение Глебки с этим вовсе не покончило… Не только за то, чтоб ты был начищен-выглажен, — она прерывисто вздохнула. — За то, чтобы ты смог сделать то, что хочешь. До меня это прежде как-то не доходило. За судьбу. Победишь ты жизнь или надорвешься. Останешься собой или не сдюжишь. Сохранишь цель или сил не хватит. Вот за все это.