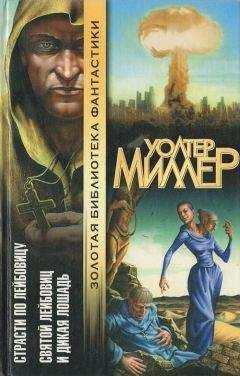Уолтер Миллер - Страсти по Лейбовицу
Она холодно взглянула на него.
— Вы думаете, это может доставить удовольствие Богу?
— Если ты доверишься ему, то да.
— Я никогда не пойму Бога, которому доставляет удовольствие страдание моего ребенка!
Священник моргнул.
— Нет, нет! Боль его не доставляет Богу никакого удовольствия, дитя мое. Когда душа крепнет в вере, надежде и любви, несмотря на телесные страдания, — вот что радует Небеса. Боль — это ужасное испытание. Богу не нравятся испытания, которые терзают плоть, он рад лишь когда дух воспаряет над испытаниями и говорит: «Изыди, Сатана». То же самое и с болью, которая часто лишь искушение поддаться отчаянию, гневу и потере веры…
— Передохните, отче. Я не жалуюсь. Но у меня ребенок. И ребенок не в силах понять ваших проповедей. Хотя она тоже должна страдать. Она должна страдать, но не понимает, почему ей это досталось.
«Что я могу ей сказать на это? — подумал священник. — Снова рассказывать ей, что человек был одарен сверхъестественной нечувствительностью к боли, но потерял ее, когда был изгнан из Эдема? Что каждый ребенок — суть плоть Адама и посему… все это было правдой, но у нее на руках был больной ребенок, да она и сама плохо чувствовала себя и слушать его она не хотела».
— Не делай этого, дочь моя. Просто не делай этого.
— Я подумаю, — холодно ответила она.
— Однажды, когда я был мальчиком, у меня был кот, — неторопливо пробормотал аббат. — Большой серый кот, с плечами, как у бульдога средних размеров, а когда он гневался, то напоминал дьявола во плоти. Словом, настоящий кот. Ты любишь кошек?
— Не очень.
— Любители кошек не разбираются в них. Если ты их знаешь, ты не можешь обожать всех кошек, а та, к которой ты привязан, если ты знаешь их, — как раз та, которая не нравится любителям. Зекки как раз и был таким котом.
— А дальше, конечно, последует мораль? — она с подозрением посмотрела на него.
— Только та, что я убил его.
— Стоп. О чем бы вы ни собирались говорить, пожалуйста, помолчите.
— Его сбил грузовик, переломав ему задние лапы. Он как-то дотащился до дома и заполз под него. Пару раз он издал боевой вопль кота, который одержал верх в схватке, но большую часть времени он просто молча лежал и ждал. «Его надо прикончить, он должен погибнуть», — все говорили мне. Через несколько часов он выполз из-под дома. Стеная о помощи. «Его надо прикончить», — говорили мне. Я не мог этого допустить. Мне говорили, что жестоко заставлять его мучиться. Наконец я сказал, что если этого не миновать, я сам это сделаю. Я взял револьвер, лопату и отнес его на опушку леса. Копая яму, я положил его на землю. Затем я прострелил ему голову. Пуля была малокалиберная. Зекки пару раз дернулся, затем приподнялся и потащился к кустам. Я снова выстрелил в него. Он свалился, и я, решив, что он мертв, потащил его к яме. Не успел я сбросить туда пару лопат земли, Зекки снова приподнялся, выполз из ямы и опять пополз к кустам. Я плакал громче, чем кот. Мне пришлось убить его лопатой. Пустив ее в ход, как тесак, я снова кинул его в яму. И пока я кромсал его, Зекки все время метался и дергался. Потом мне говорили, что то был всего лишь спинальный рефлекс, но я этому не верил. Я знал его. Он хотел добраться до кустов и отлежаться там. Я хотел бы, чтобы Бог дал ему возможность добраться до этих кустов и умереть так, как умирают кошки, если вы им не мешаете и оставляете в одиночестве — с достоинством. Я никогда не чувствовал, что был прав. Зекки был всего лишь кот, но…
— Замолчите! — прошептала она.
— …но даже древние язычники заметили, что Природа не заставляет вас делать ничего, к чему бы она вас не подготовила. И если это справедливо по отношению к кошке, разве не куда более это справедливо по отношению к существу, одаренному умом и волей, — неважно, верите ли вы или нет в предначертания Неба?
— Да замолчите, черт бы вас побрал, замолчите же! — прошипела она.
— Если бы я был несколько более жесток, — сказал священник, — тогда я говорил бы о вас, а не о ребенке. Ребенок, как вы говорите, не может понять, что происходит. И вы, судя по вашим словам, не жалуетесь. И тем не менее…
— Тем не менее вы требуете от меня, чтобы я оставила ее медленно умирать в мучениях и…
— Нет! Я не прошу от вас этого. Как служитель Христа я приказываю вам, обращаясь к Всемогущему Богу, не накладывать руки на вашего ребенка, не приносить ее жизнь в жертву фальшивому богу ложного сострадания. Я не советую вам, а взываю и приказываю во имя Христа-Владыки. Это ясно?
Дом Зерчи никогда ранее не говорил таким тоном, и легкость, с которой слова слетали с его губ, удивила священника. Он продолжал смотреть на нее, и она опустила глаза. Какое-то мгновение ему казалось, что молодая женщина расхохочется ему в лицо. Когда в свое время Святая Церковь давала понять, что она по-прежнему считает свою власть простирающейся над всеми нациями и высшим авторитетом для государства, в те времена люди не могли удержаться от насмешек. Но власть приказа от имени Церкви чувствовалась даже этой раздавленной женщиной с умирающим ребенком на руках. Убеждать ее было жестокостью, и он сожалел, что ему пришлось заниматься этим. Простой и ясный приказ мог бы дать то, чего никак не удается достичь убеждением. Он убедился в этом, видя, как она сразу же ослабела, хотя он приказывал ей самым мягким и спокойным голосом, на который только был способен.
Они въехали в город. Зерчи остановился у почты, у собора святого Михаила, отправить письмо и несколько минут обсуждал с отцом Зело проблемы беженцев, затем заехал взять копию указаний службы гражданской обороны. Каждый раз возвращаясь к машине, он был почти убежден, что не найдет в ней своей спутницы, и каждый раз находил ее на том же месте: держа ребенка на руках, она отсутствующим взглядом смотрела в открывающуюся перед ней бесконечность.
— Не хотите ли сказать мне, дитя мое, куда вы собираетесь направиться? — наконец спросил он.
— Никуда. Я передумала.
Он улыбнулся.
— Но вы так торопились попасть в город.
— Забудьте это, отец мой. Я передумала.
— Отлично. Теперь мы возвращаемся домой. Почему бы вам на несколько дней не поручить заботу о вашем ребенке нашим сестрам?
— Я подумаю об этом.
Машина направилась обратно к аббатству. Когда они приблизились к лагерю Зеленой Звезды, он увидел, как что-то изменилось — и не в лучшую сторону. Пикетчики больше не ходили перед воротами. Собравшись в группу, они что-то говорили и слушали офицера и третьего человека, которого Зерчи не мог узнать. Он перевел машину на полосу замедленного движения. Один из послушников, узнав машину, принялся размахивать своим плакатом. Дом Зерчи не предполагал останавливаться здесь, пока не доставит на место девушку, но один из офицеров вышел на полосу движения, как раз перед ним, и жезлом указал ему на обочину, автопилот отреагировал автоматически и остановил машину. Офицер жестом приказал машине съехать с дороги. Зерчи не мог не повиноваться. Два подошедших офицера полиции остановились, посмотрев на номер машины, и потребовали документы. Один из них с любопытством посмотрел на женщину с ребенком, обратив внимание на красную карточку. Другой махнул на стоящую в неподвижности линию пикета.