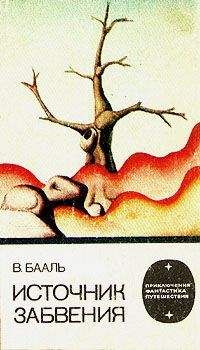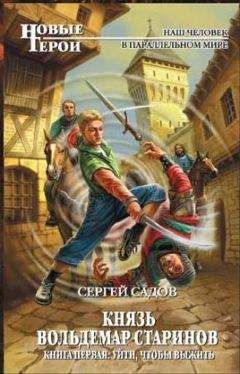Вольдемар Бааль - Эксперимент
— Это бессмысленно, командир, потому что всегда — ничья.
— Ну, тогда поиграйте с вашим приятелем фельдшером.
— Он проиграет. Разница уровней. Я бы поиграл с Зеноном.
— Зенон нужен мне, дружище. В общем, я думаю, вы найдете какое-нибудь занятие.
— Да, командир.
— Привет!
— Привет.
VII
Раньше Филипп никогда всерьез не задумывался о таком явлении, как автоэдификация новейших роботов. Он, как и большинство, кто имел с ними дело, давно привык к их очеловеченному виду и голосу, к их сверхпамяти и сверхзнаниям, точности, четкой логичности, находчивости и даже остроумию. И разного рода инструкции и памятки, основанные на самых последних исследованиях киберологов, ни разу и ни в чем не поколебали его отношения к искусственному коллеге, какие бы парадоксальные мысли он вдруг не высказывал, какие бы вдруг не обнаруживал «эмоции».
Но вот сегодня, оставив кабину управления, он почувствовал необычное беспокойство и волнение; мысли его назойливо закружились именно вокруг автоэдификации киберов, и самой назойливой была мысль о том, до каких степеней она может простираться, эта автоэдификация, это непрерывное и упорное самостроительство — ведь они обнаруживают самые натуральные эмоции, эмоции без всяких там кавычек, они чувствительны. Он знал, конечно, это и раньше, но не предполагал, что их чувствительность настолько откровенна и сильна, если складываются подходящие обстоятельства.
Филипп понимал, что состояние его имеет прямое отношение к предстоящему разговору с Зеноном. Да, он будет с ним говорить, он не может не говорить с ним — поэтому он и взял его с собой. Он, разумеется, не предполагал, что Зенон достиг таких вершин в автоэдификации, не ожидал, что тот настолько чувствителен, но данное положение вещей, может быть, даже и к лучшему: он, Филипп, должен проверить себя, услышать из уст универсуса мнения, возражения, контрдоводы; он должен с помощью Зенона капитальнейшим образом проэкзаменовать себя, чтобы предельно ясно и точно выверить свой план. И если Зенон — именно Зенон, кибер высшей категории, универсус (хоть и бывший), так изощрившийся в самостроительстве, — если он сможет доказать ему несостоятельность его плана или найти всерьез уязвимое звено, или посеять хотя бы тень сомнения, то Филипп оставит свою затею, и «Матлот» повернет назад.
Да, бесспорно, это в самом деле лучше, что Зенон настолько самоусовершенствовался, что ему стали доступны эмоции, тем серьезнее пройдет экзамен. А большего пока и не требуется.
Няньку он увидел на привычном месте у иллюминатора. Зенон встал, шагнул навстречу и все время, пока Филипп переодевался, пытался выяснить, чем тот готов заняться. Ничего серьезного он, само собой, не предлагал, да и не следовало предлагать — полет-то «разгрузочный». Поэтому одно за другим шло: еда, питье, книги, фильмы, массаж, игры, сон и так далее. Однако Филипп, стараясь казаться бодрым, все это отвергал и, наконец, на вопрос «сам-то ты придумал» решительно ответил:
— Беседа.
— Не притворяйся, Фил, — сказал Зенон, подвигаясь ближе.
— Я в самом деле желаю беседовать!
— Возможно. Но ты притворяешься веселым и уверенным в себе, а ты вовсе не весел и не уверен.
Филипп сел в кресло, и сразу же потянуло развалиться — бодрость мгновенно улетучилась.
— Мне кажется, я уверен в себе, — тяжело проговорил он. — Но иногда мне так кажется, что уверен не до конца. Поэтому мне нужна беседа с тобой.
— Поэтому я здесь.
— Да, старина, поэтому ты здесь.
— Следовательно, ты с самого начала не был уверен в себе.
— Может быть.
— И это ты, Фил?! Решиться на такое предприятие, не будучи уверенным в себе?.. Выходит, я был прав, предположив нравственный коллапс.
— Послушай, Зенон, — сказал Филипп. — У нас уйма времени. Его, я думаю, хватит, чтобы понять друг друга, чтобы ты уяснил, почему я решился. — Он передохнул. — Да, уйма времени, и мне от этого уже теперь тошно. Потому что я спешу, я испытываю такое нетерпение, какого, может быть, еще ни разу в жизни не испытывал. Спешу, тянет страшно, рвет из этого вот кресла, и если бы я мог, если бы был викогитатором, как они… Ты пока не перебивай меня, старина, договорились? Я спрошу, когда понадобится, твое мнение. Впрочем, викогитация — это, в принципе, использование энергии мысли. А транскогитация…
— Прости, Фил, нетрудно догадаться.
— Нетрудно. Но у нас этого еще нет.
— Да, еще нет.
— Зенон! — с жаром произнес Филипп. — Со мной произошло непредвиденное.
— Я знаю.
— Да?
— Ты поступаешь по-новому.
— Может быть, я буду говорить путанно; может, я уже опять под воздействием… — Филипп закрыл глаза. — Я должен сосредоточиться…
И не торопясь, стараясь не упустить мелочей, стал разматывать клубок всего, что пережил с того самого момента, когда во время последнего полета увидел на внутриконтрольном экране голубое свечение. Ему все время мешало сознание, что он, может быть, уже во власти Оперы, и, стало быть, говорит не то, что думал там, на Земле. Поэтому он силился призвать всю волю, предельно сконцентрироваться — Зенон должен знать его собственные, земные размышления и выводы, свободные от какого бы то ни было давления извне. И сверкание глаз Зенона и смена оттенков его смуглого лица свидетельствовали, что он также — весь исключительная собранность и внимание.
VIII
— У них нет имен, представляешь? Ну, то есть, нет в нашем понимании. У них, Зенон, имя — это определенной долготы, высоты и тембра звук. И звуки эти не просто имена — они заключают в себе все физиологические, биологические и психологические сведения об индивидууме — полная, одним словом, информация. Представляешь, старина? Вот я и дал ей имя. И она согласилась: Доми. Потому что именно эти два звука слетели с ее губ. Так она там у них зовется, обозначается, отличается. Удивительно, не так ли?! Я, Зенон, не музыкант, ты знаешь, но тут и не надо быть музыкантом, чтобы понять, почувствовать, что — клянусь! — ни один человек никогда не слышал таких чистых и стройных, таких поразительных звуков. И все там так звучало, все — воздух, почва, деревья, птицы, — всё было пропитано такими чудными мелодиями. И тут само собой и назвалось — Опера. Ну, а как иначе, если они и общаются мелодиями, поют друг другу — так, видишь ли, устроен их речевой, говоря по-нашему, аппарат…
— Зенон, старина! Ты смыслишь в чувствах, поэтому не можешь не понять меня: она прекрасна. И к этому ничего добавить нельзя. Прекрасна. И наверно потому, а может, и еще почему-либо меня, представь себе, не смутил голубой цвет ее кожи, фиолетовые волосы. Совершенно не смутил! Разве у нас мало прекрасных женщин и разве нехороша Кора? Но Доми… Ах, о Коре потом, потом — ты поймешь меня, Зенон, я уверен, ты поймешь. Доми — особая. Да-да, вполне может быть, что все это она мне внушила. И себя внушила, и все остальное. И те странные здания, которые я видел при посадке, и деревья, и тень. Она ведь сама потом призналась, что на самом деле выглядит не так, какой теперь видится мне. А как, спрашиваю, как? Ты, отвечает, не увидишь меня, если я приму свой истинный облик. Каково, а! То есть она меня разгадала, вычислила, одним словом, все мои представления обо всем, желания, понятия — всего! Вычислила и внушила то, что хотела внушить. Понимаешь? Она сделала все вокруг и себя такими, чтобы, значит, не испугать или, может быть, не оттолкнуть, или, может быть, чтобы я увидел все-таки? Как ты считаешь?.. Погоди, не отвечай. Я понимаю: может быть, иллюзия. Может быть. Но может быть и нет? Ведь она сделала так, чтобы я увидел — я, своими человеческими глазами, которые видят все только одним определенным образом. Но если и иллюзия — все равно. Пусть иллюзия. Прекраснее ее я не знаю…