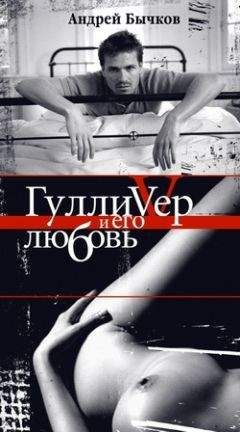Андрей Аникин - Смерть в Дрездене
22. Талейран — маршалу Даву
…Не знаю, была ли его смерть заслуженной, но она была закономерной. Жозеф начал игру, для которой не имел ни характера, ни дарований, ни чувства меры. Я заклинаю вас, князь, не медлить больше. Я надеюсь так скомпрометировать Маре, Коленкура и Бертье, что ваша задача будет облегчена. Меня больше беспокоит положение в самом Париже. Помните ли вы: император не раз говорил, что он один остановил революцию, что после его ухода она будет продолжаться. А он часто был весьма проницателен. Брожение может охватить провинции и армию. Старайтесь не давать солдатам свободного времени и возможности общения с чернью.
23. Из дневника Николая Истомина
Берлин, октябрь
…Бал у австрийцев. Шасса нет, он послан ненадолго с миссией в Дрезден. Г-жа фон Г. здесь. Глядя на нее, понимаешь Шасса. Не таких ли женщин из Венеции писал Тициан? За ее уверенностью и свободой обращения мне видится что-то другое… Что? Бог знает.
— Mais ou est votre ami francais?[8]
Я уверен, она знала о поездке Шасса. Мой ответ она, впрочем, едва слышала. Мысли ее были далеко.
Странный конец разговору. Слуга подал ей конверт. Она открыла его и, бегло просмотрев небольшую записку, в нем бывшую, обратилась ко мне:
— M-r Nicolas. (Еще на прошлой неделе она спросила у меня разрешения этак меня звать.) Окажите мне услугу. Возьмите это письмо, пойдите и сожгите его тотчас же. Убедитесь, что все обратилось в пепел.
Я взял конверт, вышел в соседний кабинет, где никого не было, и зажег от свечи конверт вместе с запиской. Вернувшись в зал, я не нашел ее там. Мне сказали, она только что уехала.
…Шасс вернулся. Я рассказал ему о происшествии на балу. И может быть, напрасно. Он что-то шутил, но я его уже достаточно знаю: ему было неприятно. А я, кажется, впервые подумал, что, в сущности, завидую ему и ревную. Это ужасно. Он показал мне письмо из Парижа. Неужели там будет революция? О, как бы я хотел это видеть!
…Кому доверю я то, что происходит в моей душе? Только сим листам, на коих дал себе клятву быть искренним до конца. Сила неодолимая влечет меня к этой женщине. Являюсь в дом всякий день, знаю, что это становится неприлично, но не могу с собой ничего сделать. Иногда мне кажется, что она ко мне расположена.
Думал я, что лишь в романах, и притом в плохих, бывают женщины, ради которых человек готов пожертвовать всем — дружбой, родными, отечеством, самой жизнью. Но ныне, кажется, начинаю верить. И страдаю. Шасс перестал быть откровенен со мной. Разумеется, я тоже молчу о том, что со мной происходит. Но опасаюсь, что он догадывается.
…Опишу вчерашнее происшествие как было. Ибо смысла его я не знаю еще. Верховая прогулка по ее приглашению. Шасс, я и еще трое мужчин, из коих один — ее кузен, г-н фон Крефельд, постоянно (и нередко к моей досаде) ее сопровождающий. Две дамы, ее компаньонки. И, конечно, она… прекраснее, чем когда-либо, в черной с бисером амазонке, розовая от возбуждения и от осенней свежести. Светлые волосы ее с рыжеватым отливом волной спускаются на плечи…
Молодость моя располагает дам к некоторой фамильярности. Они этим слегка забавляются, а что мне остается делать? О холодном достоинстве Шасса я могу только мечтать, да неспособен я к нему и боюсь, не буду никогда способен. Обе компаньонки довольно милы, хоть неопределенного возраста и нации. Последнее, впрочем, относится и к г-же фон Р. Она вдова прусского тайного советника, но сама наполовину итальянка, наполовину француженка. Муж ее умер тому три года, оставив весьма расстроенное состояние.
Погода чудесна, лес весь светится. Парки здесь обширны и отменно содержатся.
Шасс и она опередили нашу группу, остальные тактично оставили их наедине. Ревнивые мысли не давали мне покоя. Чем более я их гнал, тем злее они жалили. Сам для себя незаметно свернул я в боковую аллею и вдруг оказался один, о чем вовсе не сожалел. Издали женский голос: Nicolas-a-a! Я не отозвался. Так прошло, может быть, полчаса. Внезапно слышу шум ветвей позади и оглядываюсь. На полянку вылетает ее жеребец, весь в мыле. Сердце мое замерло, я не знал, что сказать. Она улыбнулась самой своей милой улыбкой, чуть озорной, что ей так к лицу.
— Пусть бедный Альтон немного отдохнет. Пройдемся немного.
Я соскочил с лошади и помог ей. Лицо ее было в двух дюймах от моих губ, прядь волос коснулась меня. Голова моя закружилась, я что-то пробормотал и, уверен, покраснел как рак. Избавлюсь ли я когда от этой слабости? Мы пошли молча рядом, ведя лошадей на поводу.
— Вас не заинтересовала записка, которую вы тогда сожгли по моей просьбе?
— Мадам, вы меня оскорбляете!
— Ах, как мы горды! Это и подобает столбовому дворянину. Кажется, так это у вас называется? А между тем эта записка касалась вас.
— Меня?
— У вас есть бумага и карандаш?
Я достал свою записную книжку, Оленькин подарок. Она положила ее на седло спокойно стоявшего Альтона.
— Вот копия того, что вы сожгли.
Я прочел неровные строчки: «Мадам, я вынужден просить вас срочно приехать ко мне. Я жду вас с делом, не терпящим отлагательства. Простите, но иначе я не могу поступить. И пожалуйста, отделайтесь предварительно от г-на Истомина, который проявляет к вам, мне кажется, излишний интерес».
Подписи не было. Я вопросительно посмотрел на нее.
— Это писал Фредерик.
Кровь бросилась мне в голову. Кузен!
— Но…
— Ах, молчите, Nicolas, молчите! Он имел основания вызвать меня.
— Но…
Она закрыла мне рот рукой. Перчатка пахла тонкими духами и конским потом.
— Не спешите все узнать. Я, например, знаю слишком много и страдаю от этого. И верьте: я никогда не попрошу вас сделать что-либо недостойное. Ах, Nicolas, если бы вы могли понять…
— Я могу, я хочу понять!
— Нет, нет, не теперь! Помогите мне сесть в седло.
Мне кажется, я видел на ее лице замешательство, и страх, и еще что-то. Она ускакала, а я остался на месте, обуреваемый тревогой и сомнениями. Не знаю, сколь долго я там простоял.
…Визит господина Фредерика! Послан ли он ею? Не думаю. Нетрудно понять было, что его беспокоит письмо, сожженное мною.
— Вы должны извинить мою кузину, г-н Истомин. У нее всегда, знаете ли, были странные фантазии.
— Помилуйте, г-н Крефельд, мне не в чем извинять ее.
— Она с детства любит всяческие наивные тайны, легкие интриги и то, что англичане называют practical jokes.[9] Покойный супруг был постоянным предметом ее проделок, вполне невинных, впрочем.
— Г-жа фон Г. очаровательна. Мне доставляло бы искреннее удовольствие быть, как вы говорите, предметом ее проделок.