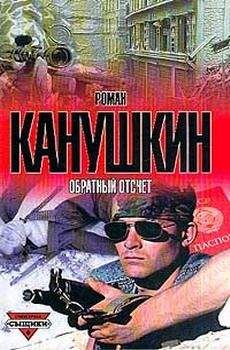Владимир Шибаев - Прощай, Атлантида
– Сейчас. Пошли, ребята, – сказал географ. – Поймаем машину, и прямо в больницу, – и потянул подростков, подталкивая в спину, прочь с этого мероприятия.
Конечно же, конечно он не видел окончания торжественного митинга. А многие, многие потом, пересказывая случившееся, удивлялись плотному сцеплению обстоятельств, хотя и передавали события ну полностью непохожими словами.
Народ на площади совершенно разъярился, отдельные группы, добывая или имея уже в запасе палки и колья, пораженные нападением и падением двух простых людей, начали разворачивать, шебурша, колонну, направляя ее острое жало в сторону руководящего здания и прячущихся за ним кварталов. Также их целью был завод, фабрика, бензин и спички.
Гафонов в ужасе, пораженный смутой и мельтешащими событиями, дико озирался кругом, не смея смотреть на красный нож. Но не долго пустовала трибуна. На нее выбежала простоволосая девица в коротеньком подвенечном наряде и взялась качать огромным плакатом, на котором виднелись буковки " Белый налив" – гордость нашего сада!". И, схватив микрофон, девица заорала:
– Не пущу! Не дам одним бить других! Проклятые, хватит драться. Не пущу. Идите к храму, развейтесь…Не ходите рушить, не пущу…
Однако огромный детина, как назло оказавшийся здесь и похожий на ройщика могил или на грузчика автобазы, озираясь, подтянулся на руках на аренку и завопил:
– Лизка, сука! Домой…Лизка, убью! – и набросился на девушку, повалил ее и начал таскать за волосы по трибунке, волоча и оря что-то.
Площадь замерла, не понимая происходящего. И, конечно же, толстый крупный хлопец, студент или пионервожатый, в длинных глухих шортах и с вертящимся барабаном на боку, взобрался к расправе и бросился защищать дорогую ему Элоизу. Силы были не равны. Огромный детина повалил обоих и особенно стал долбасить и обхаживать кулаком ввязавшегося в семейную разборку скаута.
Тут дальнейшие рассказы разнятся. Потому что не все слышали и не все поняли, когда к онемевшему от событий Барыге подскочил маленький шустряк Воробей, бледный, как голубь, и, тыча ему пальцами в лицо, заорал, брызжа слюной:
– Ты! Ты!
– Ты! – сделал ему пальцами растопырку в лицо мощный банкир.
– Ты! – опять завизжал Воробей. – Беги, твоего убивают сына.
Барыга невидящими глазами поглядел на авансцену перед памятником, где здоровяк молотил по барабану ногами, и тихо сказал Воробью:
– Ты. Я тебя задавлю.
– Я тебя сам придушу! – завизжал бесстрашный Воробей. – Сына твоего добивают.
Барыго опять огляделся кругом красными глазами, и из него вырвался жуткий бычий вой.
Что было дальше, присутствовавшие на разборке описывают разными, доступными им словами, потому что все, кто только что заполнил сценку наверху неправильно сбитой трибунки, скатились с нее, и судьба одного из них, грузчика или бывшего автослесаря, неизвестна и поныне. Скорей, он просто постарался срочно смешаться с землей и асфальтом, обгоревшими спичками и пустыми пачками сигарет. В образовавшуюся тишину к подножию трибунки неслышно подошла женщина, укрытая грязноватой лисой, и тихонько промолвила:
– Гафонов. Скажи что-нибудь хорошее.
Гафонов поднялся во весь рост, поглядел на Эвелину и на окровавленный стилет, магнитной красной стрелкой указывающий на него, и, будто призывая тишину, поднял руки. Потом он упал на колени и сказал в свой микрофон:
– Спаси и помилуй, пресвятая Богородица.
Вновь посмотрел на Эвелину, стоящую молча и тихо. Потом глянул, что расположился он лицом к монументу, переполз угол на коленях, обратился к народу на площади и сказал, а потом запел странным, нецерковным голосом:
– Спаси и помилуй, пресвятая Богородица. Спа-си-и…поми-и-лу-и, пре…
Несколько попиков выбрались на авансцену, учуя божественное, и тихонько, темным клобучком собравшись у поднятого другого микрофона, серебряными хоровыми голосами затянули церковную песню. Да такую душевную, теплую и святую, что многие прослезились и оттаяли. Тихо, под песню, и еще другую – такую же звонкую и чистую, развернулись многие люди и толпой, разными группами и отдельными светлыми лицами потянулись к собору, по дорожке, постоянно подправляемой служками, мимо жестяных роз и бумажных маков, укрепленных по обочине на щитках. Так и закончился удивительный торжественный митинг и планировавшийся концерт, и редкие мелкие начальнички, кучившиеся группкой на пустеющей площади, молча разводили руками.
Единственно, о чем всколзь еще следует сказать и что было всеми выпущено из вида, так это – в самом начале событий к небольшому худенькому старичку, грустно стоящему поодаль от начальников, подошел чужой, из другого города командировочный в мятой шляпе, валявшейся, видно, и в луже, и сквозь зубы сказал:
– Отводи своих крикунов, Ильич. У меня за углом батальон горных стрелков с полным комплектом. Перестреляю твоих орлов, как вальдшнепов.
К Ильичу тогда, по его знаку по очереди, стараясь не встретиться, подбежали Артур и Альберт и, получив указания, молча строевым шагом отправились к буйствующим группам – приднебугским бузотерам и бойцам держащегося в тени заборов " Боеотряда". Те враз примолкли и примкнутыми рядками стали сворачиваться.
– Что? – со слезой на глазах спросил Ильич. – Опять я продулся!
– Надоел ты всем, – процедил командировочный, и, уходя, бросил. – Если б не заслуги…Пойдешь ветеранов возглавлять.
Надо сказать, что этими выступлениями отдельных трудящихся светлый майский день, конечно, не окончился. Везде в эти часы, а потом и позже, и совсем поздно, до самой ночи в городе плясали, бузотерили, весело и отчаянно немножко дрались и выпивали, у кого что припаслось. Все-таки первомай это такой праздник – хороший.
Кругом особенно многие пускали петарды, которые то, взмывая вверх, распускали над городом павлиньи хвосты, то хлопались на земле в руках неумелых бомбардиров – изображали глубокое вулканическое прошлое планеты. Географ с трудом поймал ближе к ночи отчаянного любителя сшибить праздничную деньгу и теперь в его кургузой машинке подъезжал к темному особняку на окраине.
Долгие часы перед этим провели они вместе с ребятами Кабанчиком Димкой Хорьковым и Краснухой в сером больничном коридоре. Мимо, молча хмурясь, проходили врачи, всем своим видом предъявляя ненависть к работе в цветущий праздник. Кабан сидел на скамье, уткнувшись в угол, и безучастно смотрел на тетку-уборщицу, нарочно возившую тряпкой по его грязным ботинкам. Наконец, ближе к сумеркам, вышел из дверей доктор в голубом халате с вензелем на кармашке, подошел к географу и потер переносицу, задев и скосив крахмальную шапочку на лоб.
– Вы кто больному? – спросил.