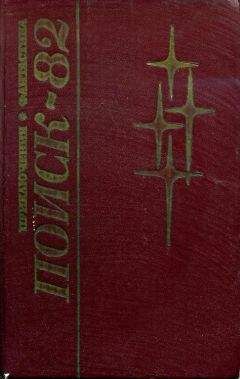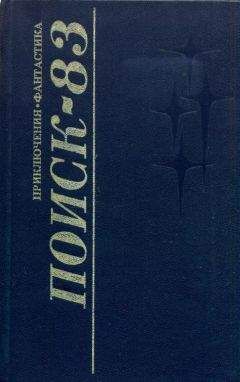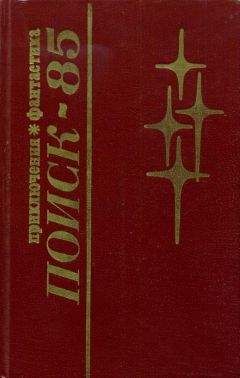Евгений Пинаев - Поиск-88: Приключения. Фантастика
Юра пристроился рядом. Тоже навалился на перила, сплюнул в воду.
— Да, жалко, — вздохнул Юрий Иванович. — В наше время Нелета обмелеет, и купаться тут станет невозможно. Построят на этом месте красивый бетонный мост, но он будет по существу над оврагом.
Юра не ответил. Сосредоточенно сдвинув брови, думал о чем-то.
— Самой горячей проблемой в наше время станет защита так называемой окружающей среды, — грустно продолжал Юрий Иванович. — Ты вот, помню, на экзамене по ботанике с жаром рассказывал о великом плане преобразования природы, а мы заговорили о великом плане защиты ее.
— А когда американцы на Луну высадятся? И как их фамилии? — перебил Юра.
— На Луну? — удивился Юрий Иванович. И вдруг со стыдом обнаружил, что не знает ни год, ни фамилии. Один астронавт, кажется Армстронг, однофамилец некогда любимого трубача Луиса-Сэчмо, а другой? А дата? Четвертое октября пятьдесят седьмого года, двенадцатое апреля шестьдесят первого запомнились намертво, а вот человек на Луне... — Мы договорились: никаких вопросов!
— Зачем же вы тогда вообще про американцев говорили? — обиженно хмыкнул Юра. — Одно можно, другое — нельзя.
— Затем, что знаю: ты никогда никому не скажешь, что первыми на Луне будем не мы. Побоишься, — уверенно заявил Юрий Иванович. — Эта информация останется в тебе, а значит, не повлияет...
— Здоров, Бодрый! Скупнуться приканал?
Юрий Иванович повернул голову.
Худосочный парень в длинном, чуть ли не до колен, мятом сером пиджаке панибратски хлопнул Юру по плечу. Тот вздрогнул, испуганно распрямился, глянул на него заискивающе, потом — виновато — на Юрия Ивановича.
— Да нет, Цыпа. Я так.
Цыпа! Черная, несмотря на жару, кепка-восьми-клинка с микроскопическим козырьком натянута почти на глаза, хромовые сапоги, изжеванная, расстегнутая рубашка, тельняшка под ней.
Юрий Иванович почувствовал, что опять, как и много лет назад, сдавило сердце от ненависти и омерзения, как стало тяжело и душно в груди. Он развернулся, посмотрел в упор в лицо этой страшной шпане своей юности. Ничего особенного — болезненно-бледный, с нечистой, в точечках, кожей. В памяти он остался более зловещим. И все же Юрий Иванович невольно сжался, испытал нечто вроде озноба — сработал давний страх и отвращение к этому полураскрытому рту с мокрыми губами, к этой белесой челке, к этим глазам — пустым и равнодушным, словно у вареной рыбы.
— Чо уставился, дед? Человека не видел? — лениво, врастяжку спросил Цыпа и вдруг сделал резкое движение, будто хотел ткнуть в живот двумя растопыренными пальцами с длинными грязными ногтями.
Юрий Иванович непроизвольно дернулся, прогнулся назад. Цыпа изобразил губами улыбку.
— Струхнул, поп? Не боись, я шучу, — и потребовал сонно: — Дай-ка закурить.
Юрий Иванович ощутил, как сердце отчаянно ударилось в грудную клетку; стало жарко и сразу же зябко.
— Пшел вон, кретин, — сказал он четко.
— Чо-о-о? — протянул Цыпа. — Ну-ка, мужик, повтори.
— Пошел вон, — раздельно повторил Юрий Иванович.
Он успокоился, оперся спиной о перила. На шпаненыша смотрел насмешливо. Тот, глубоко всунув руки в карманы брюк, щерился, раздувал ноздри, буравил обретшим выражение, но не страшным, а изучающим взглядом.
— Дяденьки, пустите!
Худенький лопоухий мальчишка с всклокоченными мокрыми волосами деловито проскользнул между ними. Глянул торжествующе на берег, где замерли в ожидании приятели, потом — горделиво — на Юрия Ивановича: вот, мол, полюбуйтесь на меня, удальца-храбреца! Начал вскарабкиваться на перила.
— Ты еще, шмакодявка, тут... — Цыпа, не глядя, пихнул его растопыренной пятерней.
Мальчишка завизжал, сорвался с моста, дрыгая руками, ногами. И не успел он еще долететь до реки, не раздался еще резкий, точно доской ударили, шлепок его тела, не взметнулся еще белый, литой, похожий на стеклянный сталагмит, выброс воды, как Юрий Иванович уже схватил Цыпу левой рукой за грудки, правой, развернув, за штаны.
— Ах ты, гад, звереныш!
Мелькнуло обезумевшее от страха лицо Цыпы, блеснули подковки на подошвах сапог, взметнулись серые полы пиджака. Пронзительный, как свист, вопль заложил уши, и парень закувыркался в воздухе.
Он вынырнул с выпученными глазами, выплюнул длинную струйку воды, разинул безмолвно рот и опять скрылся, отчего пиджак, распластавшийся на поверхности, плавно и величаво, будто шлейф, скользнул следом.
— Утонет еще, скотина! — Мрачный Юрий Иванович торопливо пошел по мосту.
— Ну и пусть подыхает! — неожиданно и зло заявил Юра. — Вам что... Сегодня или завтра испаритесь, а этот останется.
Юрий Иванович уже ступил на мягкую траву пологого откоса. Остановился. Оглянулся удивленно.
— Однако, — качнул головой, — крут ты. Человек ведь все же.
— Человек? — Юра даже зашипел от негодования. — Что от него толку, зачем ему на свет-то надо было появляться? Душить таких мало... И не смотрите на меня так! — потребовал, поморщившись. — Мои мысли — ваши мысли. Сами говорили.
— Неужто я так думал когда-то? — Юрий Иванович, опустив голову, ковырнул носком башмака землю. — Не помню, прочитал ты уже «Преступление и наказание» или нет?
— Читал! Читал! — выкрикнул Юра. Облизнул губы. — И полностью согласен с Раскольниковым. Прав он и мыслил верно, только кончил дурацки... Во, выплыл, сволочь!
Цыпа, пошатываясь, выбирался на берег. Светлые струйки, весело журча, сбегали в воду; костюм почернел, прилип к тощему телу. Мальчишки врассыпную бросились от берега. Остановились вдалеке, со страхом и недоверием разглядывая некогда грозного, а сейчас жалкого, мокрого урку. Тот мотал головой, как от боли, стонал. Сорвал кепчонку, смял ее, отер с силой лицо.
— Ну, сука, ну, брюхатый, я тебе устрою, — закричал он булькающим от обиды, унижения голосом. — Ну, падла, ты меня вспомнишь, выпущу я тебе кишки... — Захлебнулся от ярости и бессилия. — Сделаю я тебя, сделаю! — погрозил побелевшим кулаком.
И, конечно, как всегда, невесть откуда появились зеваки. Они толпились на мосту, но — вот удивительно! — молчали, не возмущались, что здоровенный мужик связался с парнишкой: знали этого хулигана.
Юрий Иванович вперевалку направился к нему. Цыпа торопливо, задом, засеменил в воду.
— И ты, Бодрый, запомни. Не жить тебе. Слезами, паскуда, умоешься! — визгливо, с отчаянием, пообещал он.
— Я-то тут при чем? Я, что ли, тебя сбросил? — взвыл Юра.
Голос был притворно сочувствующий, хнычущий и ехидно-довольный одновременно.
Юрий Иванович запнулся. Постоял. Развернулся.
— Не унижайся! — рявкнул. — Не позорь себя!
Пересек, не оглядываясь, дорогу, спустился с откоса и побрел узкой тропкой через чей-то огород. Слева зеленели на буро-серых конусах фонтанчики картофельной ботвы; справа шелестел ивняк, выворачивая изнанкой узкие листья, которые взблескивали, точно юркие серебристые рыбки; впереди ровно шумел кронами Дурасов сад; над головой — синее, веселое небо: хорошо, спокойно, благостно, но сопит обиженно за спиной Юра, и Юрий Иванович кривится, как от изжоги. Он не мог, не смел судить себя юного за страх перед Цыпой, сам только что почти испытал его, но вопль Юры был уж слишком откровенный, отчаянный и подловато-гаденький, — стыдно, обидно, противно за себя.