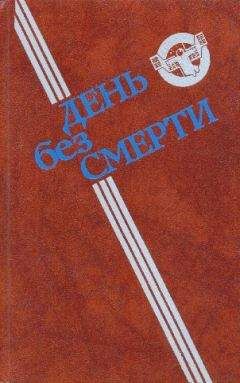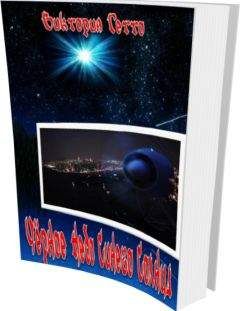Анатолий Маркуша - Приключения капитана Робино
На другой день меня утешает доктор: «В конце концов все будет хорошо, — уверяет он, — после таких травм и потрясения, что тебе достались, нервишки нормальным порядком отказывают. Временно! Скоро пойдешь на поправку».
А вечером все начинается сначала, только теперь не сестра и не доктор, не Молли видятся мне, а бравые ребята из ведомства «Самого».
— Здравствуй, капитан! Узнаешь? — Капитан он произносит с усмешкой и угрозой. Знает — перед ним самозванец и аферист.
— Скорость отрыва «Каталины»? Та-ак, а теперь быстренько — давай-ка крейсерский режим Р-39, та-ак, а если на «Кинг-кобре» летишь? Хорошо. Быстренько — скорость, обороты, давление масла, температура? Кто тебя свел с рыжей? Быстро. Она немка…
— Какая немка? — пытаюсь я возражать. — Чушь собачья — немка.
— Не очень шуми, капитан! Генерал, что забросил тебя в Америку, обрезав фамилию, прошел через нас по пятьдесят восьмой… так не стоит тебе возникать. Поправляйся пока. Привет от «Самого», он тебя ждет, вроде работку подобрал…
От бесконечного лежания у меня болели уже бока, раскалывалась башка от мыслей, я мучительно старался понять, где кончается явь и начинается сползание в бред. Меня напрочь замучило это «мишугирование», как говорила бабка, когда бывала особенно недовольна мной. И отец, если только слышал, непременно вмешивался:
— Вы могли бы, мама, сказать тоже самое по-французски или по-немецки… Вы же владеете, мама, разными языками, а не только еврейским.
— Куш мир ин тохес, француз паршивый, — оскорблялась бабка и требовала раздобыть ей подпольной мацы — скоро пасха!
— Мама, девятьсот тринадцатый год давно кончился, — недовольно ворчал отец, — пора менять привычки.
Но запрещенную мацу ей все-таки доставали. Бабка жирно мазала ее маслом, приклеивала ветчину и, перевернув свой кощунственный бутерброд ветчиной вниз, ела его с выражением торжествующей Бабы-Яги. И ничего, еврейский бог ее почему-то не наказывал.
Как же я не любил часы, когда ко мне возвращались картинки из моего насквозь фальшивого детства. То есть детство было, понятно, подлинное, а фальшь пропитывала все кругом. Раньше, чем я узнал, что означает слово «мимикрия», я познакомился с этим явлением во множестве его вариантов. Да-а, эти картинки были еще неприятнее, чем воспоминания о Гальке, о том, как я дрожащими руками расстегивал на ней пуговицы, как оттягивал тугие резинки и… капитулировал. Трусил.
Теперь уже почему-то не стыдно признаться, я много раз трусил. Перед отцом, перед школьным директором, перед дворником, перед инструктором в аэроклубе, перед Галькой, перед парашютными прыжками и, когда попал в кабинет «Самого», тоже трусил… И все-таки я не стал бы клеймить себя позорным клеймом — трус. Когда шестилетним я проснулся от странного шума на фоне освещенного уличным фонарем окна и разглядел мужскую фигуру на подоконнике, я не поднял крика, а сел в кровати и спросил: «Куда ты идешь, дядя?» Дядя удалился, не удостоив меня ответом. Позже мне объяснили — дядя был вором… В семь лет я запросто подходил к любой собаке. Мне говорили: укусит! Не лезь так близко! Но я лез и почему-то знал — меня собака кусать не будет. Подростком я съездил сволочи-учителю по морде, и хотя после этого мне пришлось покинуть школу-десятилетку и перейти в техникум, никогда не сомневался — поступил правильно. В конце концов я сам сделал себя летчиком, а на исходе войны превратился даже в летчика-испытателя.
Так важно ли: трусил я или не трусил? Важно совсем другое — что в конце концов из человека получилось. Бывало — штопорил, но всякий раз благополучно выходил из очередного штопора, хотя он вполне мог бы закрутить меня глубоко в землю… Страх — защитное чувство, способствующее самосохранению. И вся штука в том, чтобы не поддаваться панике, когда тебя прижимает, преодолевать страх силой разума, силой воли, предыдущим опытом.
A.M.: Здесь я снова попробовал напомнить Автору, что для цельности и занимательности повествования все-таки не хватает боевых эпизодов. Очень требуется красочка военного времени, а то люди стали уже забывать имена героев «пятого океана», что дрались в небе и по прежнему достойны восхищения и памяти.
АВТОР: Ты — просто «смола», ну, что пристал со своими эпизодами? Пойди в любую библиотеку и погляди, сколько километров книг про войну там выстроены в колонны. Погляди, потом поинтересуйся, а сильно ли эти книги читатель требует? Про войну людям давно надоело, больно уж много вранья развели вокруг этого времени… А ты опять свое: эпизодики давай, красочку добавь… Ладно, вот тебе эпизод и на нем — ша!
Когда я еще с первым моим командиром корабля летал на «Дугласе», был у нас один особо впечатляющий рейс. Везли мы за линию фронта деятеля международного масштаба! Понятно, ни фамилии, ни имени его нам тогда не открывали, операция проводилась в глубокой тайне, но по самому маршруту можно было кое-что предположить. В далекой от места вылета точке нам предстояло колыхнуть того деятеля с парашютом. Мужик был в приличных уже годах, к парашютному спорту явно не приобщенный, почему он на такое проникновение к своему народу согласился, сказать не берусь.
Летим час, другой, третий, ночь лунная, прозрачная, можно сказать хрустальная ночь. И вдруг мой командир говорит:
— Как считаешь, Максим, а что если присесть? Жалко мне старика выкидывать…
— Сесть, почему не сесть: видимость «колоссаль», только как потом взлетать будем?
— Нет в тебе куража, Максим! Трусы в карты не играют. Не взлетим, так накроемся. Война! И война без жертв не бывает…
Никак я такой выходки от моего командира не ожидал. Очень до этого момента он представлялся мне респектабельным, сверхдисциплинированным. Но, видать и впрямь, чужая душа — потемки.
И ведь сел командир! Старика выгрузил и тут же пошел на взлет. Чуть позже парашют выкинули. Еще в полете командир предупредил экипаж: кто протреплется, из-под земли достанет и на шашлык пустит, а потом как рявкнет:
— Благодарю за службу, орлы!
Такой военный эпизодик тебе подходит? И не приставай, не спрашивай, где садились? Никто не знает, сколько времени действуют подписки о неразглашении.
Или ты ожидал эпизода со стрельбой, а еще лучше — с тараном?! Про безногих героев писатели больно любят распускать слюни. Еще в цене у них бабы в роли командира корабля. Чего мне повторять кого-то? Все, перехожу на другую волну. Не надо всерьез относиться к самой говенной литературе о нашем благородном ремесле.
После войны я вернулся в институт, из которого был откомандирован в Америку. Начальник сменился. Меня, понятно, никто не помнил, я тоже едва кого-то узнавал. Проболтался я месяца два фактически без дела, жил в гостинице, порой меня назначали в наряды — то дежурным по гарнизону, то в офицерскую столовую дежурным. Для изучения нравов тоже, между прочим, не бесполезно. Чего, например, стоит мода на отдельные начальственные кабинеты в офицерских столовых?! Воевали вместе, командир — друг, товарищ и брат — сам погибай, а товарища и тем более, брата — выручай. Правильно? А по мирному времени начальнику рядом с подчиненным принимать пищу сделалось вдруг зазорно. С чего бы? Авиация вседа отличалась своим демократизмом, я на войне называл полковника «батей» (если он того стоил!) и ничего, считалось нормально. А тут что-то пошло вкось. И!