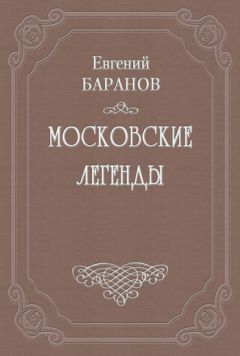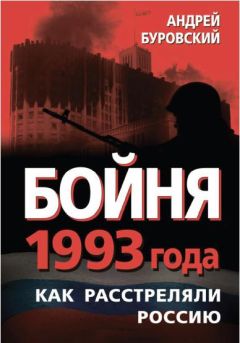Андрей Марченко - Империум. Антология к 400-летию Дома Романовых
Звали мальца Ванькой Осиповым, и был он из самых что ни на есть неимущих крестьян, в услужение к барину за долги отданных. Шел Ваньке от роду четырнадцатый год, но ловок и смекалист был малец изрядно, за что и лупил его барин безжалостно. За нерадивость подзатыльниками угощал, за леность розгами охаживал, а за воровство, бывало, батогами берёзовыми, а то и кнутом.
Вдоль забора господского, в темноте хоронясь, пробрался Ванька к Ильинским воротам. К Посольскому подворью зайцем пуганым проскочил. Между мануфактурными цехами, что граф Апраксин да граф Толстой на том подворье устроили, ужом прополз. И выбрался на Никольскую.
Здесь Ваньку ждали. И не кто-нибудь, а Петрушка Смирной, сын солдата и сам беглый солдат прозвищем Петр Камчатка. Был Камчатка вором, нетрусливым, удачливым, и людей, каких надо, знал.
– Принес? – Ваньку за плечо ухватив, шепнул он.
Ни слова Ванька не сказал, а пояс крученый снял и вору подал. Были в поясе том четыре рубля запрятаны, которые, пока Петрушка Филатьев спал, в ларце лежали.
– Богато, – похвалил Камчатка. – Ну, пойдем, что ли.
У Всехсвятских ворот переждали вдвоем ночную стражу и вниз нырнули, на набережную, к Берсеневскому мосту, который на Москве называли Новым Каменным, а то и просто Каменным, как у кого язык повернется. Построил мост два десятка лет тому ученый старец Филарет, по приказу князя Васьки Голицына, что у царевны Софьи Алексеевны в фаворе был. Хорошо строил Филарет, старательно, особенно девятую арку, последнюю – место, которое знающие люди «девятой клеткой» звали. Под «девятой клеткой» ночи ночевали, питие пили да беседы беседовали добры молодцы, лихие, удалые, в воровском и разбойничьем ремеслах искусные.
– Этот малец со мной будет, – сказал сидящим вокруг костра людям Камчатка. – Под свою руку его беру. Наш малец, свойский. А это Волк, Жузла, – стал он называть прозвища друзей-приятелей, – Замчалка, Лебедь, Медведь, Бухтей, Баран, Шинкарка, Журка…
Начало как раз светать, и Ванька вгляделся в новых знакомцев. Были они большей частью молоды, кто его лет, кто постарше на год-другой. Лишь рябой Бухтей да сам Камчатка выглядели людьми опытными, пожившими. И еще сидел поодаль, насупившись и сгорбившись, совсем уж дряхлый старик, морщинистый, с волосами цвета прогоревшей золы, носом как у коршуна клюв, и с глазами черными, чернее ночи.
– Откуда будешь? – спросил у Ваньки долговязый, с подбитым глазом Жузла.
– У барина в услужении со усердием должность отправлял, только вместо награждения несносные побои получал, – прибауткой ответил Ванька.
– На офеньском говоришь ли?
Был офеньский языком особым, тайным, от офеней-коробейников произошедшим, лихим людям понятным и для нужд их сподручным.
– На офене мало-мальски ботаю, – ответил Ванька.
– А товар с безумного ряду на офене чего будет? – не отставал Жузла.
– Водка это.
– А немшоная баня?
– То изба пытошная.
– Ладно. А умеешь чего?
Ванька переступил с ноги на ногу, очи долу опустил.
– Петь могу.
– Да ну? Давай, спой!
Ухмыльнулся Ванька, подбоченился, плечи расправил и затянул:
– Не ходи, мой сын, во царев кабак,
Ты не пей, мой сын, зелена вина,
Не водись, мой сын, со бурлаками,
Со бурлаками с понизовыми,
Со ярыгами со кабацкими,
Потерять тебе, сын, буйну голову.
– Хорошая песня, душевная, – похвалил Жузла, когда Ванька закончил. – Ты ее откуда слыхал?
– Ниоткуда, сам сочинил, – сказал Ванька, и морозом посреди лета его пробрало – от того, как сверкнул на него глазищами старик.
– Кто таков? – спросил он Камчатку, когда добры молодцы один за другим разошлись на работу, воровскую работу, черную.
– Юродивый это, – Камчатка нос опростал и на землю сплюнул. – Родом он с дальних земель: не то немец, не то француз, не то еще какой турок. По-нашенски говорит странно, не всегда поймешь, и себя не помнит. Лет ему, дескать, под триста, а с чего живет – неведомо. Прибился к нам и не уходит, а мы и не гоним.
– А ну, подойди ко мне, – позвал Ваньку старик, когда остались вдвоем. Голос у него был, словно ворон каркал.
Подошел Ванька, стал глядеть в сторону, не в глаза же такому смотреть – боязно.
– Ты песню по правде сам сочинил? – каркнул старик. – Или, поди, наврал?
– Сам.
– А ну, попой мне еще.
Смутился Ванька, не хотел петь, страшный был старик, с глазами черными, как воровская работа. Но отказать не смог почему-то, почему – сам не ведал.
– Бес проклятый дело нам затеял, мысль картёжну в сердца наши всеял, – запел Ванька с опаской.
– Хорошо, – похвалил старик. – А вот я тебе тоже кое-чего спою:
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышней я всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
– Это чья же песня? – подивился Ванька.
– Моя, – сказал старик и засмеялся, словно филин заухал.
– А звать тебя как, старче?
Старик насупился.
– Я – Франсуа, – просипел он.
И добавил, помедлив:
– Я – Франсуа, чему не рад: увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея.
Старик с заморским именем закряхтел, закашлялся. Сунул руку в карман ветхого, латаного сюртука, долго шарил там и вытащил на свет божий вещь диковинную, цвета медного, на крендель похожую, только мелкую, с полпальца.
– Знаешь, что это? – спросил.
Ванька замотал нечесаной и патлатой русой головой.
– Это лира, – каркнул старик. – Но не простая – кабацкая, она такая на свете одна всего. Заберешь ее у меня?
– Зачем? – изумился Ванька.
Старик хмыкнул.
– Жить вечно будешь. Если руки на себя не наложишь, сколько захочешь проживешь, без счета.
– Руки на себя накладывать – грех, – разозлился Ванька. – Брешешь сам не знаешь чего.
– А ты послушай. С кабацкой лирой бить тебя смертным боем будут – и не забьют. В каменном мешке гноить будут – и не сгноят. Казнить пожелают – не смогут. Слава о тебе будет, как ни о ком другом. Так возьмешь?
Повел Ванька плечами, поежился. Точно ведь брехал старый черт, а не поверить нельзя было. Словно строка из песни, что тот спел, в душу вошла – «я сомневаюсь в явном, верю чуду».
– Ну, возьму, – сдвинув брови, сказал Ванька. – И чего с ней делать?