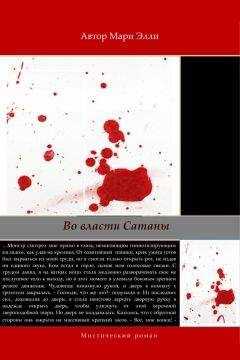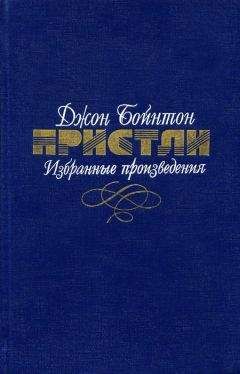Джон Пристли - Дженни Вильерс
— Ну вот. Запейте — они скорее растворятся у вас внутри. — Он отхлебнул виски. — И если с полчаса у вас будут какие-нибудь странные ощущения, не тревожьтесь. Сидите смирно и отдыхайте — вот и все.
Проглотив таблетки, Чиверел задумчиво посмотрел на доктора и спросил:
— Скажите, доктор, ведь вам приходится видеть много страданий?
— Да. Вот уже после того как мы расстались, я повидал несколько прескверных случаев. А что?
— Я только что поспорил с одной актрисой, моим старым другом. Она осуждала меня за цинизм и желчность, за то, что мне все наскучило. И она не понимает, что это происходит потому, что я вижу, как тяжела и безрадостна жизнь для других людей. По ее мнению, причина в том, что у меня был слишком большой успех, и он достался мне слишком легко, и мне не за что было бороться, и так далее…
— Может быть, она и права, — сказал доктор Кейв. — Но при чем тут я?
Чиверел ответил ему откровенно:
— Я подумал, что вы являетесь доводом в ее пользу, а не в мою. В вас нет ни капли скуки, цинизма, желчи.
— Конечно, нет. Но это другое дело. Когда люди страдают, я стараюсь избавить их от страданий. Такая моя работа. Я борюсь за жизнь, и это меня поддерживает.
— Может быть, и мой долг — бороться за жизнь, — сказал Чиверел.
— Это долг каждого. — Доктор Кейв встал.
— Если бы только верить, что жизнь стоит того.
— Еще бы не стоит. Ваша беда в том — и тут вам приходится труднее, чем мне, — что писательская работа зависит от воображения, а оно у вас, должно быть, преувеличивает несчастья других людей и все страдания, существующие в мире. Особенно — вот это нужно запомнить, — когда падает давление и начинается депрессия, и все вам кажется таким трудным. — Он взял свой чемоданчик и шляпу.
— Возможно, вы и правы, — вздохнул Чиверел. — Хотя тот факт, что я всего-навсего клубок артерий да насос для перекачивания крови, не вызывает у меня прилива радости.
— Ну вот! — живо вскричал доктор Кейв. — Опять вы преувеличиваете. Я же не сказал, что вы состоите только из этого, но я действительно говорю, что и это имеет значение. Поэтому просто надо быть осторожным. Не забудьте, что я сказал. А лучше позвоните мне утром. Ну, теперь устраивайтесь поудобнее и постарайтесь расслабиться. — Он шагнул к двери, и как раз в этот момент в комнату заглянул Отли. — Отли, смотрите, чтобы мистера Чиверела около часа никто не тревожил. Ему нужен покой. И убавьте немного свет. Нет, ничего, я найду выход. Спасибо за угощенье. Всего!
Удивительно, как изменилась Зеленая Комната, когда Отли выключил почти весь свет. Осталась только маленькая лампа на столике позади Чиверела да бра с тремя желтоватыми лампочками на стене недалеко от его кресла. Комната стала казаться вдвое больше. Отли, замешкавшийся у двери, потонул во мраке.
— Вы сказали, чтобы я зашел после доктора.
— Да. Присядьте на минуту.
Толстенький коротышка Отли взгромоздился на стул, на котором только что сидел доктор Кейв, совсем рядом с Чиверелом.
— У нас все очень ценят доктора Кейва, — заметил он. — Правда, сам я у него не лечился, я человек здоровый. Он вам дал что-нибудь принять, мистер Чиверел?
— Да, эти таблетки, — вяло сказал Чиверел и вытряхнул две таблетки на ладонь. — Кстати, через пол часа мне, вероятно, будет звонить из Лондона сэр Джордж Гэвин, и поскольку разговор предстоит важный, переведите его сюда, пожалуйста. Больше никаких звонков. И если сможете, не пускайте никого. Мне предписано отдохнуть перед репетицией.
Отли пристально посмотрел на него.
— Ну, конечно, мистер Чиверел. Я буду у себя в кабинете. А вам лучше бы принять таблетки, а?
Чиверел смутно чувствовал, что здесь что-то не так, но не мог сообразить, что именно.
— Да, пожалуй, приму.
Отли подал ему стакан воды запить лекарство, и когда он возвращал стакан Отли, тот заметил на столе перчатку.
— Э-э, как это она сюда попала?
— Вы о чем?
Отли показал ему перчатку.
— А, я нашел ее на полу. А в чем дело?
Отли снова сел, все еще держа перчатку в руке.
— Занятные истории тут рассказывают о двух-трех вещицах, — сказал он негромко. — В том числе и об этой перчатке. Вы же знаете эти россказни — одно суеверие.
— Я не суеверен. — Чиверел зевнул. Он не ощущал сонливости в обычном смысле слова, но чувствовал, что в любой момент может медленно выплыть из своего кресла.
— Я тоже, мистер Чиверел, — слишком поспешно отозвался Отли. — Нисколько не суеверен. Но знаете, в таком месте иногда приходят в голову странные мысли. Я положу ее обратно в тот шкаф.
— А кому принадлежала перчатка? — лениво спросил Чиверел.
— Это никакая не знаменитость. Но лет сто назад она произвела здесь сенсацию и была любимицей местной публики, а умерла совсем молоденькой. Вы о ней, наверное, никогда не слыхали. Ее звали Дженни Вильерс.
Чиверел удивленно взглянул на него.
— Дженни Вильерс, — повторил он медленно. — Странно. Очень странно.
— Почему, мистер Чиверел?
— Я как раз думал о ней на днях, — произнес Чиверел по-прежнему медленно. — Вот как это было. Я искал какую-то фамилию в старом справочнике «Кто есть кто на театре», а потом от нечего делать начал перелистывать страницы и дошел до последнего раздела под названием «Театрально-музыкальный мартиролог».
— Я знаю, — сказал Отли, — там указывается дата смерти и возраст каждого умершего.
— Вот-вот. И это повторение слов «умер», «умерла» после каждого имени, — продолжал он задумчиво, — звучит точно похоронный звон…
Он замолчал.
— И вам случайно попалось на глаза ее имя, — подсказал Отли.
Чиверел кивнул:
— «Дженни Вильерс, актриса, умерла пятнадцатого ноября 1846 года в возрасте двадцати четырех лет». Видите, я запомнил даже эти подробности. И она заинтересовала меня. — Чиверел надолго замолчал, потом продолжал медленно, с усилием: — Она, видно, добилась какого-то успеха, несмотря на свою молодость, если ее включили в этот список. И все же ей было только двадцать четыре года, когда она умерла. Все у нее шло хорошо… наконец успех… а потом погасла, как свеча… — Он опять умолк и посмотрел на Отли с сонной виноватой улыбкой. — Дженни Вильерс. Прелестное имя. Наверное, ненастоящее.
— Я тоже так думаю, — сказал Отли. — Слишком уж красивое для настоящего, я бы сказал.
— Дженни, — продолжал Чиверел медленно и мечтательно, как он обычно никогда не говорил, — это что-то такое молодое и женственное, светлое, почти дерзкое. А Вильерс — такое величественное, аристократичное и немножко мишурное, как все старинные театральные имена. Я пытался представить себе эту девушку на коротком ее пути, улыбающуюся и делающую реверансы, освещенную огнями масляных фонарей рампы и газовых рожков этого странного, далекого, чопорного старого Театра сороковых годов… Я был очарован… и странно растроган… словно…