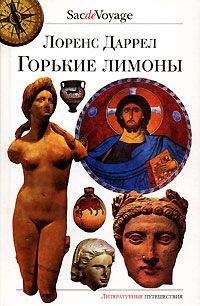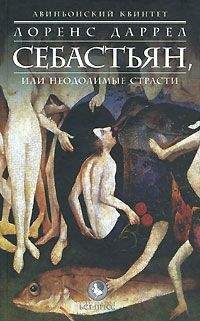Лоренс Даррелл - Бальтазар (Александрийский квартет - 2)
Скоби снова уснул, чтобы через пару секунд пробудиться, театрально вздрогнув всем телом. "Кстати, это ведь именно Тоби, - продолжил он с места в карьер, сглотнув слюну и благочестиво перекрестившись, - наставил меня в истинной Вере. Как-то ночью мы вдвоем стояли вахту на "Мередите" (старая добрая посудина), и вот он говорит мне: "Скоби, мать твою, я хочу сказать тебе одну вещь, чтоб ты знал. Слыхал когда-нибудь о Деве Марии?" Я, конечно, слышал, но смутно. Не совсем представлял себе, какие у нее, так сказать, обязанности..."
Он опять провалился в сон, и на сей раз до меня донесся тихий рокочущий храп. Я осторожно вынул из его ослабевших пальцев трубку и прикурил сигарету. Полшага вперед, полшага назад, и возникает на минуту зыбкое подобие смерти - было в этом что-то трогательное. Короткие визиты вежливости в ту самую вечность, куда он скоро переселится окончательно, сопровождаемый уютными и уже неотделимыми от него образами Тоби, и Баджи, и Девой Марией со вполне определенными обязанностями... И задумываться о подобных вещах, делать из них проблему в его-то возрасте, когда, насколько я мог судить, он вряд ли был способен на что-то большее, чем просто хвастаться своими давно уже чисто воображаемыми достоинствами! (Я ошибался - Скоби был неукротим.)
Некоторое время спустя он снова воскрес от более глубокого и продолжительного на сей раз сна, встряхнулся и поднялся на ноги, протирая кулачками глаза. Я тоже встал, и мы пошли в сторону убогого трущобного райончика, где он снимал квартиру - пару обшарпанных комнат на Татвиг-стрит. "Ну конечно, - опять заговорил он, обнаруживая редкостную последовательность мысли, - тебе легко советовать, чтобы я им не говорил. Но вот ведь какое дело". (Здесь он остановился, чтобы втянуть в себя льющийся из двери магазинчика запах горячего арабского хлеба и воскликнуть: "Пахнет, как лоно матери".) Мысль его имела свойство приноравливаться к шагу. Он снова тронул с места привычной иноходью. "Знаешь, старина, египтяне - народ что надо. Превосходный народ, добрый. И они меня хорошо знают. Конечно, со стороны они могут показаться просто шайкой бандитов - и я не стал бы спорить, старина, но это бандиты очень доверчивые и всегда готовые пойти навстречу, я всегда это говорил. Они просто не мешают друг другу, и все. Ну вот, к примеру, буквально на днях сам Нимрод-паша говорит мне: "Пидорастия - это одно, гашиш - это совсем другое". И знаешь, он не шутил. И я теперь никогда не курю гашиш в рабочее время - было бы нехорошо с моей стороны. Хотя разве англичане станут ставить палки в колеса КБИ* [Кавалеру ордена Британской Империи.] вроде меня. Да и не смогли бы, если бы даже им того захотелось. Но вот если египтяшкам однажды взбредет в голову, что наши - ну, скажем, косо на меня поглядывают, - старина, я могу потерять оба места. И оба жалованья тоже. Вот что меня беспокоит".
Мы поднялись по облепленной мухами лестнице, буквально изрешеченной неровной формы крысиными дырами. "Да, попахивает немного, - согласился он, но к этому быстро привыкаешь. Мыши, знаешь ли. Нет, я отсюда переезжать не стану. Я в этом районе уже десять лет живу - десять лет. Тут все меня знают, любят меня. И кстати, старина, Абдул живет прямо за углом".
Он хихикнул и остановился, чтобы перевести дух на первой лестничной площадке, снял свой цветочный горшок и вытер лысину. Затем побрел дальше, опустив голову и даже сбившись слегка с курса, как обычно, когда его одолевали особо тяжкие раздумья, - казалось, их вес был ощутим физически. Он вздохнул. "В общем, - медленно проговорил он с видом человека, изо всех сил старающегося быть понятым так, а не иначе, сформулировать мысль со всей возможной ясностью, - в общем, все дело в Тенденциях - и это приходит в голову только тогда, когда ты уже совсем не похож на того горячего паренька... - Он вздохнул еще раз. - Просто в мире слишком мало нежности, старина. В конечном счете, все зависит от того, насколько ловко ты поворачиваешься, и так от этого становится одиноко. Ну, а вот Абдул, он настоящий друг". Он хихикнул и снова приободрился: "Я зову его Бюль Бюль Эмир. Я и собственное дело ему купил, из чисто дружеского расположения. Все ему купил: и магазин, и его малышку жену. Я его и пальцем никогда не тронул, да и не смог бы, потому что я его люблю, и все тут. И теперь рад, что все так вышло, потому что хоть я и забираюсь все выше и выше, но у меня всегда есть преданный друг. Я их как увижу, так у меня на душе легче. Жуть, до чего я за них рад. Просто наслаждаюсь их счастьем, старина. Они мне как сын и дочь, этакие черномазенькие канальи. У меня сердце разрывается, когда они ссорятся. Я так жду, когда у них пойдут детишки. Мне кажется, Абдул ее ревнует, и, заметь, не без основания. Вертихвостка она, если честно. Но, знаешь, в здешней жаре как не думать о сексе - глоточек-то долго катится, как у нас в Торговом флоте говорили про ром. Лежишь себе, млеешь и мечтаешь о нем и таешь, как мороженое, - я про секс, не про ром, конечно. А эти магометанские девчонки - знаешь, старина, им делают обрезание. Это жестоко. Правда, жестоко. А они только пуще бесятся, все равно им больше делать нечего. Я ведь пытался отдать ее в обучение - ну, чтоб она вязать научилась или там вышивать, но она такая глупая, просто диву даешься. Ни бельмеса не понимает. А они надо мной смеются. Пусть их, я не против. Я только помочь хотел, как лучше. Двести фунтов отдал, чтобы вывести Абдула в люди, - все мои сбережения. Но зато теперь у него все в порядке - да-да, в полном порядке".
Монолог сей явно добавил ему сил, и он решился на финальный рывок. Последние ступенек десять мы попирали уже неторопливо и величественно, а потом Скоби отворил дверь в свои апартаменты. Когда-то денег у него хватало на одну-единственную комнату - теперь же, при новом жалованье, он мог себе позволить снимать весь этаж.
Большая из двух, старых арабских пропорций, комната служила ему одновременно гостиной и спальней. Из мебели там обретались неудобная кровать на колесиках, вроде тех, на которых спят в хозяйских домах подмастерья и слуги, и старомодный поставец. Несколько китайских пахучих палочек, полицейский календарь, и у осыпающегося камина не оконченный все еще портрет старого пирата, в полный рост, работы Клеа. Скоби вкрутил в патрон одинокую электрическую лампочку - недавнее нововведение, коим он горд необычайно ("Парафин, он в пищу лезет"), - и умиротворенно огляделся вокруг. Затем приподнялся на цыпочки и прокрался в дальний угол. В полумраке я поначалу проглядел еще одного обитателя комнаты - великолепного зеленого амазонского попугая в медной клетке. Клетка была закутана куском темной материи; Скоби снял покрывало и отступил так, словно в любую минуту ждал нападения.
"Я тебе рассказывал о Тоби, - сказал он. - Я вспомнил о нем потому, что на прошлой неделе он был в Александрии проездом, шел рейсом на Иокогаму. Это я у него купил - он просто вынужден был продать, чертова птица чуть нам тут революцию не устроила. Он болтун невероятный, ты ведь болтун, а, Рон? И как скажем, так в воду перднем, да, птичка?" Попугай тихо свистнул и поклонился. "Вот умница, - сказал Скоби одобрительно и, повернувшись ко мне, добавил: Рона я купил по дешевке, совсем по дешевке. И знаешь почему?"