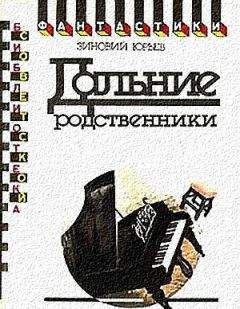Зиновий Юрьев - Дарю вам память
Не поеду, вдруг обрадовалась она. Хватит там одной Надьки двойки хватать и поросенка Сашку кормить.
Не поеду, сразу решил Сергей Коняхин. Решил, а потом уже стал думать. Конечно, если Надя захочет вернуться, тогда другое дело. Тот Сережка, земной близнец, без него, пожалуй, тогда не сумеет. С ней и так-то тяжело было, ой, как тяжело. А уж после космоса… Озорная, непутевая, не удержишь. А сердце млеет, мечется, рвется к ней, к зеленым шальным глазам с черными крапинками. Ох, тяжело тебе будет, Надя, Наденька, Надюшка.
Останься, мысленно взмолился он, здесь… здесь, конечно, тебе не так интересно, как там, в Приозерном, куда являются летом на озеро всякие там разные пижоны в заграничных очках и джинсах, но зато…
Нет, не поеду и ее не пущу. Тем более, что можно не бояться здесь проказы. Сергей мысленно улыбнулся детской своей глупости. Как ты там, Сережка? Выше нос, парень, все будет хорошо. Ты уже и так кое-чего достиг в жизни. Побольше, чем пижоны в джинсах «суперрайфл». Спасти целую расу мыслящих существ, даже если и не он один это сделал, шутка, согласитесь, не шуточная…
Сердце его сжалось от нежности к тому далекому Сережке, что упрямо накачивает по утрам гантельками мышцы и ищет ответы на вопросы, что задает ему жизнь, в Большой советской энциклопедии. Ему бы оххровское поле, он бы там натворил чудес… Как ты там, брат? Не бойся, выше нос, все еще у тебя будет, может, когда-нибудь и встретимся…
Ну, так что решила моя Надя?
— Не поеду, — сказала Надя Первая.
— Остаюсь здесь, — взмахнула решительно головой Надя Вторая, и копна овсяных волос перелетела через плечо.
— А я и подавно, в таком случае, — кивнул Сережа.
— Спасибо, — сказала Надя Первая.
— Подумаешь, — сказала Надя Вторая. — У меня есть один знакомый оххр, который все спрашивает, какой у меня идеал внешности… — При этом она посмотрела на Павла.
Конечно, напряженно размышляла Татьяна Осокина, надо было бы посмотреть, как там Петя и Верка без присмотра… «Как это без присмотра, ты что это, тетка, мелешь? — тут же поправила она себя. — Я же там». Ну конечно же, она там. Сто раз про это думала и сто раз путалась, а раз там, нечего и беспокоиться понапрасну. Не из тех она, которые только о себе думают, плюют на семью. Вроде Марьи Гавриловны из их госстраховской бухгалтерии. Муж оборванный ходит, а она за год два костюма из кримплена купила. Да хоть бы при этом еще сидели на ней, а то мешки мешками. Особенно тот зеленый с черным… Не-ет, у нее, у Татьяны Осокиной, и Петенька и Верка ухоженные. Себя не щадит. Жизни, можно сказать, не видит.
И представила себе Татьяна Владимировна земного своего оригинала, остроносенькую Таньку Осокину и Петра Данилыча с колыхающимся «Советским спортом» на лице. «Олимпийцам — достойную смену!»
И жалко, жалко стало ей ту Татьяну. Ну что, что видела в жизни? И как сможет она ходить каждый день на работу и видеть Марью Гавриловну в ее кримплене, если будет жить в ней воспоминание об Оххре, о себе, молодой и курносенькой, которая все отдала оххрам, поставила их, можно сказать, на ноги.
И Александр Яковлевич, Сашенька…
Стыдно, конечно, ей, замужней, но ведь она там, а я здесь. Сашенька, прошептала она про себя. Как бросился он тогда под пули, у нее словно глаза другие стали. То видела старика болтливого, а то мужчина предстал, который ее грудью прикрыл. Любит, как любит он ее, посмотрит — а в глазах как будто лампочки горят. И за что ее так любить можно? — кокетливо, скорее для приличия, подумала Татьяна, потому что в глубине души была уже давно согласна с заведующим аптекой, который уверял ее, что она женщина необыкновенная. И как уверял! Откуда только он такие слова находит, подумала Татьяна Владимировна. Оставить его? Да ты, Танька, тронулась совсем, если подумать даже могла такое.
И решила сразу, легко: остаюсь.
— Я остаюсь, — сказала она и посмотрела на Александра Яковлевича. — А вы как? — спросила, улыбнувшись. Хорошо спрашивать людей, когда наперед знаешь ответ. — Да вы подумайте как следует, может здесь вам скучно будет.
Ах, сладко, до чего же сладко кокетничать, когда видишь, что прямо трепещет человек. Смешной…
— Танечка, вы серьезно мне это говорите?
Спросил, а сам смотрит на нее, и губы дрожат, как у мальчишки. И в глазах такой немой укор, такой попрек во всем лице, что не выдержала Татьяна Осокина. Улыбнулась нежно, светло, легко:
— Да смеюсь я, глупенький. Счастливая я, вот и смеюсь.
— Танечка, жизнь моя…
Осторожно, словно до краев налитый сосуд, поднял Александр Яковлевич Танину руку, поднес к губам.
Мелькнул на коротенькое мгновение одинокий старик с пустой уже, наверное, банкой индийского чая «Тадж-Махал», забитые тюками с ватой помещения аптеки, с вашего разрешения, уважаемые товарищи, семь в бескозырях…
Вот и пришло его время. И все вокруг сияло сейчас, как Танечкины глаза.
— Мне кажется, — сказал Пингвин, — что это как раз то, о чем нам рассказывали Сережа и Надя Первая…
— А? Что такое? — рассеянно пробормотал Александр Яковлевич. — Вы что-то сказали?
— Он остается, — сказала Татьяна Владимировна.
— Почему только Надька Первая? — обиделась Надя Вторая. — Я тоже могу кое-что рассказать о любви… — И она посмотрела многозначительно на Павла.
А Павел думал. Все остаются, думал он, и ниточка, что протянулась сюда с Земли, скоро совсем истончится, и память не выдержит, начнет блекнуть, выцветут земные воспоминания, потеряют вначале запах, потом цвет, потом трехмерность, превратятся в старые фотографии, а потом и вовсе в пустую шелуху слов: мама, Приозерный, синичка…
А здесь… Что ж, здесь, похоже, дело налаживается. И прекрасно обойдутся они без него. А он снова увидит Ивана Андреевича, и тот скажет: «Ну что, Павел Аристархов сын, что сочинили нового?»
«Как же я всегда его легко и быстро судил, — подумал Павел. — Бац — и уже проштемпелевал: безвредный провинциальный перестраховщик…» То-то и оно-то, товарищ фельетонист, не торопитесь судить. Еще неизвестно, какой штемпель сами на лоб получите.
И потом, потом… Как же это выразить? Может быть, если никто на Земле никогда не узнает, какие густые и быстрые две маленькие тени отбрасывают все предметы на Оххре, чем-то станет беднее и Оххр? И Земля?
Ну, смелее! Решай! Здесь бессмертие, бесконечность, сила и печаль поля и поющие камни, что несутся под тобой, когда ты, обернувшись мерцающим диском, мчишься на упругих подушках своего поля. Зато там глупая синичка, что влетает осенью в форточку. Ей бы попросить спокойно: дай поесть, а она, желтогрудка, надменно высвистывает: фюить, фюить.
А здесь оххры. Бесконечно могучие и беззащитные дети космоса, которых нужно учить делать самые первые шаги. И поле, поле, тяжкое и сладостное бремя, что всегда с тобой, что сжимает грудь бесконечной печалью всего сущего и приносит неумолчный гул рек времени. И которое ты учишь не парализовать тебя свинцовой тяжестью тупой мудрости, а трепетать радостью бытия…