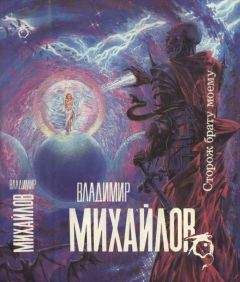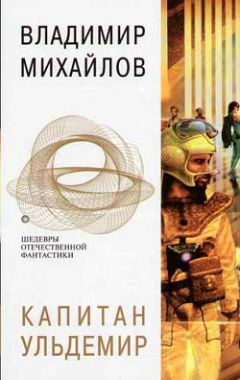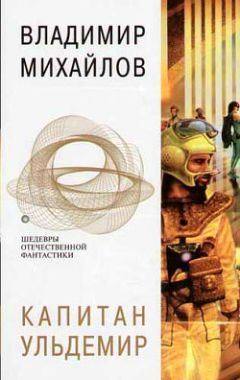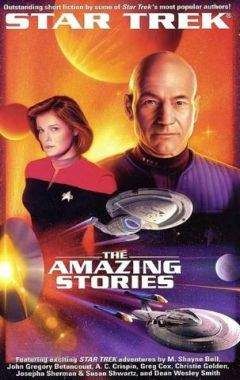Владимир Михайлов - Михайлов В. Сторож брату моему.Тогда придите ,и рассудим
Чиновник повернулся и торопливо пошел.
Трое зашагали за ним, четко ступая в ногу. Уве-Йорген любил театр и знал — или полагал, что знал, — какие сцены нравятся людям.
Трое зашагали в ногу по бесконечному коридору. Остановились перед железной дверью.
— Открыть!
Чиновник послушно отворил. Руки его подрагивали.
— Вперед — марш!
Лестница. Площадка, перегороженная решеткой.
— Вперед, ты!
— Сейчас, сейчас… Одну минутку…
Чиновник возился. Потом повернул лицо к пилоту, вымученно улыбаясь:
— Надо разрядить. Иначе…
— Быстрей!
— Да-да, сию секунду…
Наконец решетка поднялась.
— Вперед!
Снова коридор. Снова железная дверь.
— Открыть!
Дверь распахнулась. За нею был кабинет.
Уве-Йорген взглянул на Питека:
— Тут?
— Да.
Они вошли, громко, четко стуча каблуками.
Здесь по-прежнему был стол, а у стены — пульт. Компьютер работал; никого не было.
— Где он?
Чиновник развел руками.
— Я же говорил вам: его нет…
— Когда будет?
— Кто может знать это?
— Ладно. Веди к другому Хранителю.
— Они сейчас все вместе… там, в Сосуде.
— По ту сторону улицы, — подсказал Питек.
— Веди туда.
Чиновник покачал головой.
— Туда вам не пройти.
— Даже с этим? — Пилот похлопал по прикладу автомата.
— С чем бы то ни было, — ответил чиновник, чуть улыбнувшись.
Уве-Йорген едва не скрипнул зубами: вся постановка оказалась ненужной, премьера сорвалась: преимущество внезапности было утеряно.
Однако бороться надо до последнего.
Уве-Йорген уселся в кресло.
— Будем ждать. Ты тоже. Сядь вон туда.
Чиновник послушно уселся.
В молчании потекли минуты. Белый, спокойный свет лился в окна. Милое солнышко, звезда Даль, затаилась, как представлялось Уве-Йоргену, перед командой: «В атаку — вперед!»
* * *Раскапывать руины Иеромонаху понравилось. Работа была спокойная, интересная. То одно найдешь, то другое. Он раскопал все-таки вход в тот домик. Стал выкидывать землю изнутри. Повозился изрядно. Время от времени вылезал, отирал пот со лба — день был, как обычно, жарким, — поглядывал, где девица, не сбежала ли. Нет, всегда была поблизости. Тихая, смутная немного. Скучает, понимал Никодим. Так и должно.
Пара ему нравилась. Она — молодая, пригожая. Он — солидный, надежный. Совет да любовь.
В свой час позвала обедать. Поели. Никодим пробовал заговаривать. Хотелось поговорить о жизни — как она ее понимает. Девица отмалчивалась. Хотя ей, молодой, и негоже было молчать, когда спрашивают старшие.
Отдохнув, Никодим полез копать дальше — все равно ничего другого не придумать. Вырыл шкатулку с кристаллами, попалась еще фотография, залитая пластиком, сохранная. Была она вделана в крышку той шкатулки изнутри. Фотография была скорбная. Люди стояли у надгробной плиты. Вокруг — деревья с длинными иглами, здешние. Схоронили, верно, давно: плита уже влегла в землю.
Кто-то из здешних преставился, стало быть. Имя есть на плите. Как же его звали? Все равно, конечно, но — любопытно.
Снимок был небольшой, плита смотрелась наискось, прочитать было трудно. Однако зрение у Иеромонаха было отменное, не испорченное чтением смолоду. Он прищурился, повертел снимок и прочел все-таки. Одолел.
Ганс Пер Кристиансен — вот что было написано на плите. И дальше — несколько строк, помельче, уже и вовсе неразличимо.
Иеромонах задумался. Кристиансен. И имя не казалось чужим. Упоминалось вроде бы не раз. Если тот самый Кристиансен, понятно. Ну-ка, дай бог памяти…
И вспомнил.
— Анна! — он высунулся из траншеи, оперся ладонями о землю, вымахнул весь. — Анна, подойди-ка. Такое дело вышло, что идти надо, Капитана найти срочно…
Он забывал о ней за своими делами. Конечно, у всякого есть свои дела. Так должно быть. Но забывать нельзя. Внимание должно быть всегда. Подойти с цветком хотя бы. Посидеть, поговорить. Рассказать, как любишь. Какими бы ни были дела — вырваться, чтобы было ясно: дела делами, но важнее, чем она, на свете ничего нет и быть не может.
Такого от него не дождаться — она теперь ясно понимала.
Конечно, если бы она любила — примирилась бы. Но — теперь стало совершенно ясно — не любила. И интерес стал проходить. Потому что увидела: иногда он не знает, что делать, сомневается, колеблется. А ей надо было так верить в человека, чтобы по его первому слову кинуться, очертя голову.
Всегда все знают лишь люди недалекие; ей, по молодости лет, это было еще неизвестно.
Нет, не ее судьба.
Сказать ему — и уйти.
И опять, когда нужно — его нет. Оставил ее и улетел.
Нет, она права, безусловно. Хорошо, что вовремя поняла все.
Он, конечно, будет переживать. Но ничем ему не поможешь.
Скоро ли он там?
Терпение стало иссякать. И тут как раз позвал ее Никодим.
* * *Иеромонах знал направление, и они быстро собрались и пошли налегке. Ходить оба умели. Шли как будто неспешно, но ходко.
Пахота под второй урожай была закончена, и поля, быстро покрывшиеся зеленым ковриком всходов, были пустынны. Но на лугах начинался сенокос.
Иеромонах с девушкой шли, не останавливаясь, пока не пришла пора передохнуть. Устроились в тени. Анна откинулась на спину и словно задремала. А Никодим сидел подле кромки луга и, щурясь, любовался тем, как дружно взблескивали косы при каждом замахе. Сидеть было чуть влажно: дождик прошел недавно. Но и приятно.
Никодиму было грустно.
Войны не были для него новостью. Монастырь его стоял у большой военной дороги. Езживали по ней тевтоны, поляки, свей. Потом они отступали, за ними шли русские.
Горели курные избы, вытаптывались поля, недозрелые колосья вминались в прах.
И сейчас, когда начиналась война здесь, — а что она начнется, у Иеромонаха было точное чутье, — он жалел и поля, и этих людей, которым суждено было больше всех терпеть от каждой войны, а затем своим потом снова поднимать жизнь, чтобы опять лишиться всего через несколько лет или месяцев.
Но пока не пришла война — коси, раз пора настала.
Никодим подошел к косцам и попросил, чтобы ему тоже дали.
Косу для него нашли. Он подогнал ее по росту, встал в ряд со всеми и, плавно занося косу и резко проводя ее вперед, пошел, не отставая. Такое умение было у него в крови, и ничто не могло заставить Иеромонаха забыть движения, утратить чувство ритма.
До пояса обнаженный, блестящий от пота, он косил вместе со всеми, глубоко, до отказа вдыхая ни с чем не сравнимый запах летнего луга и только что срезанной травы, на которой быстро высыхали капли.