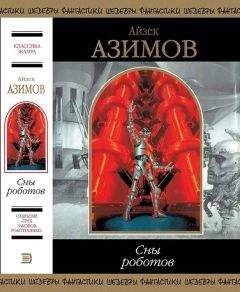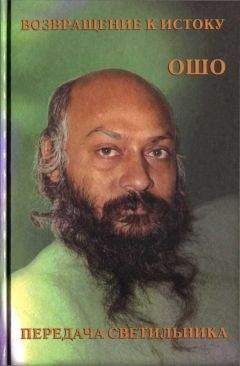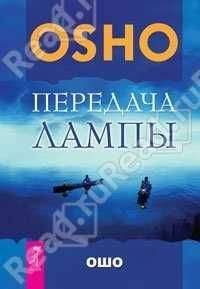Харлан Эллисон - «Если», 1994 № 09
Даже не взглянув на первую, Эррол взялся за старую и начал ее настраивать. Он умел это делать, не то, что большинство рыцарей, годных только на то, чтобы протренькать пару песенок в угоду даме. Но когда она была наконец настроена и зал начал затихать, готовясь слушать, он вдруг протянул инструмент Томасу со словами:
— Не сыграете ли сначала вы, господин?
Его выдержке можно было лишь позавидовать. Лучший арфист всегда играет вторым. Томас протянул руку к арфе, и несколько мгновений они оба держались за обод, не принимая и не выпуская ее. Мальчик начал заводиться и с вызовом бросил:
— В детстве я часто слышал от матери рассказы о вашей искусной игре при дворе.
Теперь Томас вздернул подбородок и посмотрел на него сверху вниз. Мальчик тоже задрал голову, и тут я воочию увидела то, чего никак не могла вспомнить: две руки на арфе, вздернутые подбородки, длинные носы и высокомерный взгляд — Боже, как они были похожи!
Я пискнула, не громче мыши в углу, и тут же умолкла.
— Играй, — только и сказал Томас.
Никто, кроме нас троих, не понял истинной основы поединка. Люди Эррола с удовольствием смотрели, какая честь оказана их молодому господину. Эррол сел, примостил арфу — рядом с его щуплой фигуркой она казалась больше, чем в руках Тома, — взял несколько нот.
Я не думала, что замечу, но в его руках арфа звучала по-другому. Он взял еще несколько нот, так медленно, словно грезил наяву. Но постепенно начала складываться мелодия — я узнала мотив, хоть он и звучал иначе, — словно об одном и том же событии рассказывают два разных очевидца. Это был «Тонущий Ис». Эррол играл медленно и внимательно, проверяя, как отражается звук от стен и кровли, поддразнивая слушателей паузами. Потом начали вздыматься волны, зазвонили городские колокола, игра его стала по-юношески горячей, так что последние крики чаек звучали почти диссонансом, а сокрушительные удары последних волн гудели, как погребальный колокольный звон.
В восхищенной тишине, встретившей его, он помедлил, смахнул со лба темную прядь, словно других забот у него и не было. Никто не шелохнулся. Он поглядел на Томаса.
— Петь можешь? — потребовал тот.
— Случалось, — ответил мальчик, и голос его чуть запнулся. Но он отважно начал новый мотив: легкий речитативный аккомпанемент и негромкий, но чистый голос:
Вы все, чей шелком шит подол,
А косы — льна светлей,
Не смейте бегать в Картерхолл —
Там молодой Тэмлейн.
Дженет зеленый свой подол
Повыше подняла
И золото тяжелых кос
Потуже заплела,
И побежала по тропе,
Что в Картерхолл вела.
Но лишь цветок, что всех пышней,
Взяла за стебелек,
Явился рыцарь перед ней.
И строен и высок[10].
Слушатели тревожно перешептывались.
— Неподходящая песня, чтоб петь в доме у Рифмача, — донеслись до меня чьи-то слова. Мы все знали эту песню про Тэмлейна, рыцаря, которого освободила юная Дженет из Картерхолла, носившая под сердцем его ребенка, про Дженет, спасшую Тэмлейна из рабства у Королевы Эльфов.
Но страшно вымолвить, Дженет:
Здесь, в сказочной стране,
Приносим каждые семь лет
Мы жертву сатане;
Достойней рыцаря здесь нет:
Назначат жребий мне.
«Семь лет», — подумала я и внезапно поняла, что оказалась внутри рассказываемой истории. Мы женаты как раз семь лет… Мне стало холодно, и не просто холодно. Кто этот мальчик? Он считается сыном графа Эррола, но кто его мать? Придворная дама? Из какого двора?
Теперь все смотрели не на певца, а на Томаса, гадая, что он будет делать. Рифмач сидел и спокойно слушал, как слушал бы любого менестреля.
Как мне узнать тебя, Тэмлейн,
Как мне тебя узнать,
Когда поедет по земле
Та неземная рать?
Дай вороным пройти, Дженет,
И пропусти гнедых,
А снежно-белого хватай,
Не выпускай узды!
Вот тогда и я почувствовала, что меня захватила песня, что я думаю о Дженет и Тэмлейне, и вижу перед собой блестящую эльфийскую кавалькаду, и слышу, как звенят в ночи колокольчики на конской сбруе — в дремучем лесу, а ие в нашем зале, — и тут я поняла, как много мальчик унаследовал от своего отца.
Дала дорогу вороным,
Дала пройти гнедым,
Вдруг видит: снежно-белый конь
С Тэмлейном молодым.
Музыка вдруг стала богаче, глубже, гармоничнее. Это Томас начал подыгрывать.
Они играли вместе: мальчик пел, а Томас вел основной аккомпанемент. Я никогда не слышала ничего подобного и вряд ли когда услышу.
А потом вступил сильный голос Томаса.
На землю всадника она
Стащила в тот же миг,
Плаща зеленого волна
Укрыла их двоих…
И молвит Королева Фей —
О, как была та зла —
«Из свиты царственной моей
Ты лучшего взяла!
Тэмлейн, когда бы мне понять,
Что ты уйдешь сейчас,
Земное сердце камнем стать
Заставит б тотчас».
Песня кончилась, но музыка еще продолжалась. Они играли все тот же мотив, вплетая в него все новые вариации, казалось, от начальной мелодии уж и следа нет, и все же она была тут. Ни разу музыканты не взглянули друг на друга; да им это ни разу и не понадобилось. Словно орел, кругами поднимающийся все выше и выше, а потом медленно парящий на воздушных потоках и планирующий вниз, они постепенно вернулись к основной теме, простой и без всяких прикрас. Обе арфы смолкли одновременно.
По одному, по двое люди медленно поднимались из-за столов, тихо желали друг другу доброй ночи и отправлялись к своим постелям и тюфякам, словно их сны уже начались. Мальчик глядел отсутствующим взглядом, не понимая происходящего, не зная, что сказать. Наконец он подошел к нам и просто протянул арфу.
— Нет. — Томас взглянул на него словно из неизмеримой дали. — Оставь себе.
— Но я…
— Оставь.
Томас опустил свою арфу, нет, просто уронил на пол, словно забыл о ней. Он поднялся и, пошатываясь, словно пьяный или измученный, двинулся по залу, нашел нашего Тэма, посапывающего в обнимку с гончей, осторожно поднял малыша на руки, покачал и понес в постель.
Пожелать Эрролу доброй ночи он предоставил мне.
Когда в спальню вошел Томас, я притворилась, будто сплю. Он знал, что это не так, но кое с чем даже Честному Томасу приходится считаться. Я не сердилась: может, он и об этом знал. Я думала. Я подсчитывала годы, прибавляла и отнимала. Семь лет назад он вернулся от Эльфов. Еще семь лет он провел там, и еще два — когда я его впервые встретила. Шестнадцать. Может ли этому мальчику быть шестнадцать? Когда это случилось — до или после нашей встречи с Томом на склоне холма?