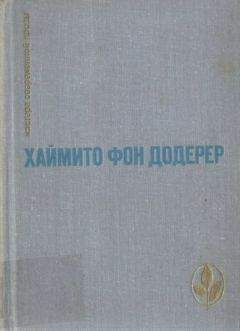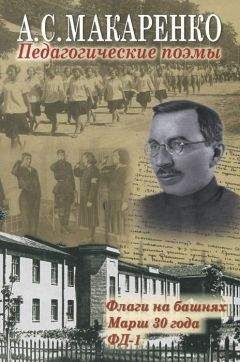Томас Диш - Щенки Земли
Соль этой истории в том, что Хааст — зеркальное отражение Йатта. Они скроены по одному шаблону. Ключевое слово — Годность. Не удивлюсь, что Хааст все еще делает по двадцать отжиманий по утрам и проезжает несколько воображаемых миль на своем велотренажере. Морщинистая кожа его лица зажарена под кварцевой лампой до вкусной коричневой корки. Он доводит до крайнего предела свою приверженность маниакальному американскому кредо — смерти нет.
А ведь он, вероятно, цветущий сад онкологических заболеваний. Не так ли, Х.Х.?)
Позднее:
Я не устоял: я отправился в библиотеку (не Конгресса ли? она громадна!) и отобрал дюжины три книг, которые теперь красуются на полках в моей комнате. Это именно комната, а вовсе не камера: дверь остается открытой день и ночь, если можно говорить о днях и ночах в этом безоконном, похожем на лабиринт мире. То, что это место теряет из-за отсутствия окон, компенсируется наличием множества дверей: бесконечные разветвления белых коридоров с множеством нумерованных дверей, большинство из которых заперты. Настоящий замок Синей Бороды. Единственные двери, которые я нашел открытыми, вели в комнаты, подобные моей, хотя в них явно нет жильцов. Не первый ли я? Ровное гудение кондиционеров наполняет коридоры и убаюкивает меня ночью, как бы напоминая, что она наступила. Может быть, это какой-то глубокий Пеллуцидарий? Исследуя пустые холлы, я метался между немым страхом и немым восторгом, как это бывает на не очень убедительном, но и не совсем уж неумелом шоу ужасов.
Моя комната (вы хотите фактов, вот вам факты):
Мне нравится она. Темна
и так могильно холодна.
Цвет белый вовсе и не бел.
Не месяц ли одел
ее в свой цвет?
Но сил уж нет
все это зреть.
Не желтый ли их цвет?
Нет, не скажу вам, нет.
Могу сказать, что X.X. это не сделает счастливым. «Поверьте, X.X., так уж получилось». — «Как поэтический экспромт это не вполне дотягивает до уровня «Озимандайз», но, с приличествующей скромностью, я удовлетворяюсь и меньшим, да-с».
Моя комната (попробую еще раз):
Не совсем белая (короче говоря, есть различие между фактом и поэзией); оригинальные абстрактные картины маслом на этих не совсем белых стенах в безупречном корпоративном вкусе нью-йоркского периода Хилтона; картины так же нейтральны по содержанию, как если бы голые стены были оклеены карточками Доршаха; дорогие, датского модерна куски вишневого дерева то здесь, то там украшены бодрящими полосатыми кубическими подушечками; акриловый ковер цвета не совсем охры; высочайшая роскошь опустошенного пространства и пустых углов. По моей оценке, я владею почти пятьюдесятью квадратными метрами пола. Кровать — в собственном маленьком алькове и может отгораживаться от основной комнаты безвкусно цветастыми портьерами. Создается ощущение, что все четыре не совсем белые стены — из прозрачного в одном направлении стекла и что за каждым унылым молочного цвета шаром светильника прячется микрофон.
О чем писать?
Этот вопрос всегда на кончике языка у каждой, такой как я, морской свинки.
Мужчина, который подбирал мне библиотеку, обладает более изысканным вкусом, чем декоратор этого интерьера. Вот: на полке не один, не два, а целых три экземпляра «Холмов Швейцарии». Даже — такая снизошла на меня Божья благодать — экземпляр Герарда Уинстенли «Утопист-Пуританин». Я прочитал «Холмы» целиком и получил удовольствие, не найдя опечаток, хотя идолопоклоннические стихотворения напечатаны в неправильном порядке.
Еще позднее:
Пытался читать. Беру книгу, но интерес пропадает к ней после нескольких абзацев. Одну за другой я откладываю Полгрейва, Гюйзингу, Лоуэлла, Виленского, какое-то пособие по химии, «Письма к провинциалу» Паскаля и «Тайм Мэгэзин». (Мы, как я подозреваю, применяем теперь тактическое ядерное оружие; два студента были убиты при разгоне демонстрации протеста в Омахе). Я не чувствовал ничего похожего на подобное перевозбуждение со времени моего пребывания на втором курсе в Барде, когда в течение одного семестра трижды поменял свою специализацию.
Головокружение поражает все мое тело. Какая-то пустота в груди, сухость в горле, совершенно неуместное стремление похохотать.
Не понимаю, что тут смешного?
4 июня
Утреннее отрезвление.
Буду просто перечислять события, как того требует Хааст. Может быть, мои свидетельские показания будут использованы против него.
На следующий день после «Песни шелкопряда» — видимо, это было 20 мая — меня все еще подташнивало, и я остался в камере, тогда как Донни и Питер (уже помирившиеся), мафиози тоже, отправились в наряд на работу. Меня вызвали в кабинет Смида, где я прямо из его рук получил пакет с моими личными вещами. Он заставил меня вещь за вещью проверить его содержимое по описи, составленной в тот день, когда я переступил порог тюрьмы. Обжигающий луч надежды — я вообразил, что какое-то чудо общественного протеста или пробуждения судейской совести сделало меня свободным. Смид пожал мне руку, и я бессвязно поблагодарил его. У меня на глазах были слезы. Этот сукин сын наверняка обрадовался.
Затем он передал меня вместе с пакетом такого же отвратительного желтого цвета, как моя лишенная свободы плоть (наверняка это было досье Саккетти), двум охранникам в черной униформе, украшенной серебром, очень по-германски и, как говорят, с иголочки. Высокие, закрывающие икры ботинки, кожаные ремни, которые создавали впечатление настоящей сбруи, зеркальные солнцезащитные очки, полный комплект: Питер стонал бы от зависти, Донни — от вожделения. Они не сказали ни слова, а прямо приступили к работе. Наручники. Лимузин с занавешенными окнами. Я сидел между ними и задавал вопросы их каменным лицам и спрятанным за зеркальными ширмами глазам. Самолет. Успокоение. Итак, маршрутом, не отмеченным даже крошками хлебного мякиша, до моей маленькой комфортабельной камеры в лагере «Архимед», где колдун накормил меня отличным обедом. (Я всего лишь нажал кнопку звонка для вызова прислуги.)
Мне сказали, что я прибыл сюда 22-го. Первая беседа с X.X. на следующий день. Теплые увещевания и настойчивые мистификации. Я говорил, что оставался некоммуникабельным вплоть до 2 июня. Эти девять дней прошли в эмпирее паранойи, но она, подобно всяким сильным страстям, угасла, ослабела до заурядного банального страха, а затем и вовсе превратилась в неловкое любопытство. Неужели я должен исповедоваться в том, что испытываешь своего рода удовольствие от того, что загнан в ситуацию, в которой неизведанный замок во все времена куда более интересен, чем его старая подземная тюрьма?