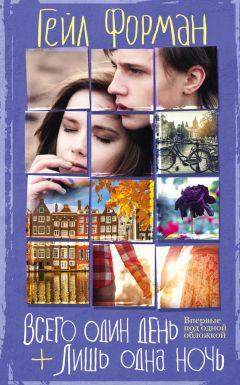Владимир Краковский - ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Они облазили все кусты, осмотрели все деревья, но найти ворону не сумели. То ли она улетела с кладбища, то ли сдохла уже, или специально пряталась. А может, встретила бездомную собаку и убежала с нею лаять, или ее съела кошка. Мало ли что могло произойти.
Верещагин вдруг сел, а потом и лег на траву, хотя не собирался ни садиться, ни ложиться. Он весь день был бодрым, активно и весело руководил поиском, бросался в гущу каждого куста, а тут – словно споткнулся и упал – сел, лег, замер в неподвижности, скованный невидимой внешней силой, которой попытался противиться, но не смог и удивился.
«Вы чего разлеглись? – спросила Вера. – Целый день нас здесь водите, а теперь разлеглись. Порядочные люди так не поступают». – «Порядочные люди вообще не поступают», – вяло отозвался Верещагин. Шевелить языком он еще мог, губами тоже, но руки и ноги лежали как парализованные. «Если поступать, обязательно сделаешь что-нибудь плохое», – добавил он. «Скажите!»-возразила Вера. «Для порядочного человека лечь на траву – преступление», – пробормотал Верещагин, как во сне.
Тень от ближайшего дерева рассекала его лицо на две равные части. Один глаз оказался в тени, можно было считать, что ему повезло, потому что другой, ослепленный солнцем, страдал. Подумав, Верещагин закрыл страдальца, которому не повезло, – веки еще подчинялись, как язык и губы, рук же и ног он совсем уже не ощущал. «Ну и ну!» – сказал он себе.
«Почему ложиться – преступление?» – спросила Тина. Ее голос прошелестел в ушах, как тихий ветерок, «Тот, кто ложится, всегда кого-нибудь давит, – ответил Верещагин. – Сколько подо мной козявок погибло». – «Но вы же нечаянно», – возразила Тина, пытаясь оправдать его жестокость, Верещагину приятно было это сознавать. Но он сказал: «Увы, ложась, я знал, что кого-нибудь раздавлю».
И снова испытал приятное чувство. На этот раз оттого, что не покривил душой.
Такое нашло состояние: все приятно. «Сейчас закрою второй глаз», – подумал он. Но пока не закрыл.
«Что ты его слушаешь? – сказала Вера. – Он болтает и болтает, что в голову придет, а ты, дура, слушаешь». – «Самая главная мечта моей жизни, – вдруг снова заговорил Верещагин, – лечь вот так на траву, раздавить козявку и чтоб в этот момент прилетел с неба метеорит и насквозь пронзил мое сердце». – «Все у него не как у людей, – проворчала на это Вера. – Лежит себе и дурь порет». – «Так со взрослыми разговаривать нельзя», – сделал замечание Тина. «Эта Вера совсем обнаглела, – подтвердил Верещагин. – Мне грубит и вас почему-то называет на «ты». Ты почему Тину называешь на «ты»?» – спросил он у Веры и тут вдруг вспомнил: в первую встречу он тоже называл Тину на «ты», а теперь почему-то на «вы» перешел. «Мы живем в одном доме, – объяснила Тина, – и очень давно познакомились. Мне было девять лет тогда, а ей – пять». – «Все! – сказала Вера. – Я пошла! Ты как хочешь, а я пошла!» Но вместо того чтоб уйти, присела возле Верещагина. Вывернутый гнилой пень лежал рядом, и вот Вера присела на него. «Сколько здесь рассиживаться! – закричала, усаживаясь поудобнее.- Возле этого, лежит себе! Где ваша ворона? Я пошла!» – и не тронулась с места. «Посидим, пока луна доплывет до этого дерева», – сказала Тина и тоже села на пень. «Какая луна? – опять закричала Вера. – Никакой луны, на небе солнце, ты просто ненормальная стала!»
Верещагин поискал открытым глазом и увидел. Ослепительное голубое небо, а на нем белесый кружочек.
Дневную луну часто сравнивают с тающей льдинкой. Я же хочу сравнить ее с вытертым серебряным пиком времен Екатерины Второй. В коллекции, которую подарил мне Верещагин, два таких гривенника. Один я хотел сменять у приятеля на польский злотый времен Казимира Четвертого, но он не согласился.
«Как-никак злотый, – сказал он. – А у тебя всего гривенник». – «Но мой гривенник такой же серебряный, как и твой злотый», – возразил я. «Пусть, – ответил приятель. – Но все-таки злотый».
Верещагин закрыл второй глаз.
112
И, уже проваливаясь в черную бездну, навстречу Городу Золотых Домов, он вдруг снова возвращается мыслью к серебряному гривеннику времен Екатерины Второй, то есть к бледной луне на дневном небосводе, он хочет напоследок еще раз взглянуть на нее и уже потом – в бездну, он тяжелым усилием открывает один глаз – и – ах! солнце наносит сокрушительный удар по сетчатке: не тот глаз открыл, не тот, что в тени, а другой, которому не повезло, надо же так ошибиться! Верещагин мычит от боли, зажмуривается, по багровому своду сплющенных век мечутся желтые, зеленые, синие, красные шары, они наплывают друг на друга, дробятся, взрываются, в глазу неприятно жжет, в мозгу острая боль.
113
Шары пожирают друг друга.
Падение в бездну прервалось, Верещагин опять слышит голоса разговаривающих Тины и Веры, он наблюдает за каннибальской игрой разноцветных шаров… Постепенно боль утихает, – пожалуй, можно решиться снова открыть глаз, но теперь Верещагина на мякине не проведешь, теперь он знает какой: тот, которому повезло. Который в тени дерева, для солнечных лучей недосягаем, им можно смотреть совершенно безболезненно и зорко.
Но открывшийся глаз-удачник, глаз-счастливчик, глаз – которому повезло, видит не полустершийся серебряный гривенник посреди неба, а девочку Веру, которая, оказывается, пересела за это время так близко, что коленками закрывает теперь половину вселенной вместе с белесой истонченной луной, – не ее серебряный диск видит Верещагин перед падением в бездну, а девчоночьи коленки, исцарапанностью и доверчивой открытостью способные вызвать в любом взрослом человеке лишь волну родительской нежности, – однако лишь при первом взгляде, потому что если всмотреться внимательнее, то чуть повыше коленок могут насторожить несколько темных волосков, которые ощетинились совсем не по-детски, а еще выше – лежащему Верещагину видна и эта припрятанная часть – там вообще все совсем иначе и неожиданно: матовая молочная кожа без царапин, разоблачительная угрюмая полнота, – одним словом, налитый прохладной влагой, тайно созревающий в тени тяжелый плод видит там Верещагин. Он возвращается взглядом обратно – исцарапанные детские коленки, худенькие загорелые икры кажутся ему теперь обманом, притворством и маскировкой. «Эти ноги себе на уме», – думает Верещагин, испытывая неприязнь и любопытство.
А наказанный за ошибку глаз еще не совсем пришел в себя. Правда, шары распались на неряшливые хлопья и уже не пожирают друг друга, но в глубине, на кончике зрительного нерва боль – легкая и ноющая, как в душе память о давней неудаче.
«Если у меня будет сын, – думает Верещагин, – и он когда-нибудь окажется в подобной ситуации, то ему заранее будет известно, какой глаз нужно открыть. Уж он-то не ошибется. А если сына у меня не будет, значит, я совершенно напрасно причинил себе боль».