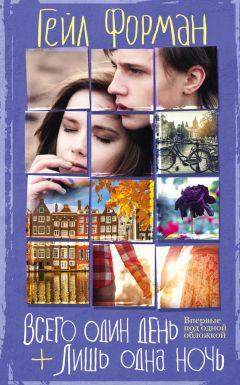Владимир Краковский - ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

Обзор книги Владимир Краковский - ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983
Владимир Краковский известен как автор повестей «Письма Саши Бунина», «Три окурка у горизонта», «Лето текущего года», «Какая у вас улыбка!» и многих рассказов. Они печатались в журналах «Юность», «Звезда», «Костер», выходили отдельными изданиями у нас в стране и за рубежом, по ним ставились кинофильмы и радиоспектакли.
Новый роман «День творения» – история жизни великого, по замыслу автора, ученого, его удач, озарений, поражений на пути к открытию.
Художник Евгений АДАМОВ
4702010200-187
К --- 55-83
083(02)-83
© Издательство «Советский писатель». 1983 г.
Владимир Лазоревич Краковский
ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Владимир Краковский
ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
О жизни Верещагина расскажу я вам. У меня на это прав больше, чем у кого-нибудь другого.
Во-первых, и это главное, в свое время мы были очень близки – я и Верещагин; он, человек весьма разговорчивый, не побоюсь сказать болтливый, порой сообщал мне такие подробности о своих текущих делах, что потом хватался за голову. «Зачем я, дурак, откровенничал!» – говорил он на следующий день.
«Не бойся, – отвечал я ему. – Не растреплюсь».
«Растреплешься когда-нибудь», – сказал он однажды.
И – как в воду глядел. Начинаю растрепливаться. Сами видите.
В конечном счете Верещагин всегда оказывался правым – вот какая особенность. В любом явлении или разговоре он умел расслышать ноту всеобщей гармонии, поэтому ошибаться просто не мог. Это был человек с исключительной способностью постигать сущность вещей… Я говорю: «был», хотя он и сейчас такой же, только с нынешним Верещагиным у меня контакта нет. Не подумайте, что теперь он воротит от меня нос, – наоборот, всегда рад встрече, оживляется и каждый раз с симпатией творит: «Ты мое прошлое. Я тебя люблю».
И все же нынешний он – недосягаем. Время виновато. Оно ведь не только разрушает стены, но и воздвигает пропасти. Мы оказались по разные стороны. Увы!
Теперешний Верещагин недоступен моему пониманию. Вот почему, говоря о нем, я употребляю слово: «был». Я знаю лишь каким он был. И хочу рассказать о том, каким он был. Каков он сейчас, об этом только Господь Бог в минуту вдохновения сможет написать две-три страницы хорошим слогом. Я же берусь говорить лишь о прошлом этого человека.
Он умел видеть продолжение вещей. Вот мы, например, видим: стоит стул. Мы – это те, кого на свете всеподавляющее большинство, то есть, попросту говоря, обыкновенные заурядные люди. Стоящий перед нами стул мы видим очень хорошо, но ничего другого, кроме того, что это стул, видеть не видим. Стул есть стул: вот ножки, вот спинка, а вот здесь стул кончился – начинается воздух или другие предметы, которые уже не стул. Стул он и есть стул. Но это для нас. Верещагин же обладал способностью видеть продолжение предметов. Он видел те скрытые от нашего взора лучи, трагическое пересечение которых порождает стул и прочие вещи и вещества. Он изучил их ход, силу этих лучей, он наблюдал их роковое борение в точке соития… Так что стул не есть стул. Он – остывшая зола вселенских страстей, сгоревших в столкновении. Вот что видел Верещагин.
Но – могут спросить маловеры – не ошибаюсь ли я? Может, ни хрена особого Верещагин в стуле не видел? Садился на него, как все мы, – и все? Стул, мол, есть стул и ничего более?
Пусть даже так. Пусть Верещагин садился на него, как и все мы. Но зато, сев уж на этот стул, он начинал размышлять о таких проблемах, которые нам и на царском троне не придут в голову.
Одним словом, как ни верти, Верещагин не чета нам. Мне кажется, что со временем он не только на Земле, но и во вселенной займет какой-нибудь довольно высокий пост. Если уже не занял.
Однако пора переходить к делу, я и так здорово затянул начало. Но по мне, так лучше лишняя сотня слов, чем малейшее сомнение насчет права автора писать то, что он пишет. Если такие сомнения возникли и не пропадают – бросай книгу, читай другую. Или вообще иди гулять. От длительных прогулок на лице возникает румянец, а от чтения книг, подобных этой, только недоуменно поднимаются брови. То есть совершаются непроизвольные мимические действия, способствующие образованию морщин.
Кому это надо?
Отныне автор будет обращаться лишь к тем читателям, которых затянувшееся вступление убедило в его праве описывать первую половину жизни Верещагина. Да, повторяю еще раз, я больше других имею на это права. Мне довелось стоять к Верещагину ближе всех. Мною досконально изучены все имеющиеся документы и редкие письменные свидетельства. Мною подробнейше опрошены лица, случайно или намеренно попавшие в орбиту его жизни.
Очень много, например, я узнал о Верещагине от Тины.
Девочка Вера, а также мальчик Коля сообщили мне о случае с вороной, о двушке, еще кое-какие детали. Их воспоминания отрывочны и туманны: в то время они были детьми. Девочка Вера, например, помнит только ворону и тот факт, что безостановочно ругала Верещагина, то и дело говоря, что все у него не как у людей. «Я вообще была очень сварливым ребенком», – объяснила свое давнее поведение бывшая девочка Вера.
Странно было слушать такое признание из уст обаятельной и ласковой молодой женщины
Дядя Валя говорить о Верещагине отказался. «Ты меня сначала в суд вызови, – заявил он мне. – Чтоб повестка была. Тогда я тебе буду обязанный рассказать все как есть, потому что тогда будет, хоть и противно моему желанию, но по закону, а против закона я никогда не пер и не попру».
Все-таки он, по-моему, чувствовал какую-то свою вину перед Верещагиным, об этом можно судить по следующим его словам, в которых чуткое ухо читателя, надеюсь, уловит скрытую попытку оправдаться. «И вообще, мало ли кто кому мешал в жизни жить, – сказал он. – Я вот иски читаю, так в одной написано – названия не помню, врать не стану, – что Галилео Галилею один там епископ лучшим другом был, а научному развитию его мыслей мешал вплоть до страшных угроз. Не смей, говорил Галилео, утверждать, что Земля вертится, а то мы тебя за милую душу сожжем. И это, заметь, друг! А я Верещагину твоему даже приятелем никогда не был, скорее наоборот, спроси его, он тебе сам скажет, кем мы друг другу были А что он там великое открытие сделал или еще что, это на меня никакой тени не бросает, я не нанимался с дому великому ученому пятки лизать». Поначалу отказывалась говорить о Верещагине и девушка Бэлла, то есть бывшая девушка Бэлла, теперь у нее четверо детей, один из них, между прочим, старшенький, учится в специальной математической школе, куда берут только особо одаренных детей. Отказывалась девушка Бэлла говорить, отказывалась, а потом вдруг расплакалась и все выложила. До сих пор жалею, что растравил ей душу: она в то время своего младшенького еще грудью кормила, от переживаний у женщин молоко или совсем пропадает или резко снижается в количестве и качестве. Но я не мог ждать, пока она выкормит этого четвертого, меня издательские сроки подпирали и сейчас, между прочим, подпирают: я как пришел в издательство, так там за мое предложение всеми руками, какие у них были, ухватились: «Книгу о Верещагине? Ах, как это своевременно! Ах, как насущно!» Тут же заключили договор, даже аванс выдали.
Директор института керамических сплавов, так называемый Пеликан, отнесся к делу с большим пониманием его важности: усадил меня в мягкое кресло, нажал кнопочку на столе, крикнул в микрофон: «Зина, ко мне никого!» – и часа три обстоятельно рассказывал: о студенческих годах Верещагина, о его чудачествах и, главное, конечно, о создании Кристалла.