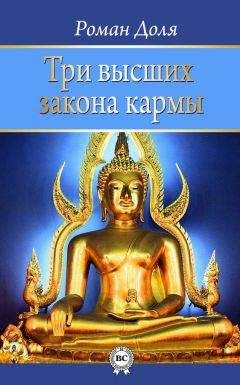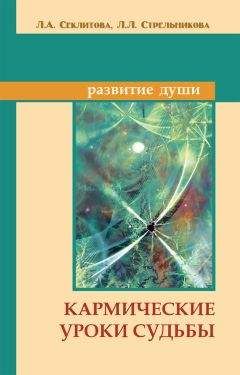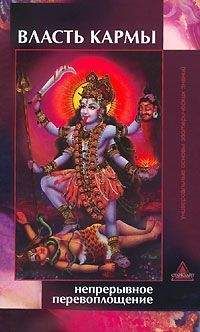Андрей Нимченко - Нф-100: Псы кармы, блюстители кармы. Весь роман целиком
- Набери мой номер на своем сотовом. Если что - нажмешь на кнопку, вызов пойдет, и я сразу пойму, что что-то не так.
- Брось, Мей. Из подвала никакой сигнал не пробьется. Да и не дадут мне его подать - Ираклий же не дурак.
Он помолчал какое-то время, а потом сказал:
- Ты же понимаешь, я не могу теперь идти.
- Понимаю. Не извиняйся. Ты же не виноват.
Он отвел глаза. Было в этом жесте что-то такое... не знаю. Но я вдруг подумал, что друг мой мог просто струсить. Все, что он делал в последние дни: его резкие слова в адрес Боба, попытка обвинить американца в наших неудачах; отказ разделить со мной опасность, такой поспешный, без раздумий и почти без сожаления - все это заставило меня усомниться. Медленно, мучительно, будто раскрывая дневник собственной матери и боясь прочесть там что-то, что детям о родителях знать не положено, я протянул туманную "руку" к кокону Мея. Поймал тонкую нить кармы, обуздал ручеек эмоций моего друга и заглянул в его ментальный слой. Мелькнула мысль: неизвестно, что хуже, убедиться в его лжи, или в честности. Первое значило потерять доверие к другу. Второе - к себе.
Я уже хотел отказаться от своего намерения, но было поздно. Ментальное пространство Мея раскрылось передо мной, и я увидел, что он лжет.
- Какой месяц, Мей? - глухо спросил я. Это было все равно, что резать себя ржавым ножиком.
- Что?
- У Лены. На каком месяце она?
Вихрь, наполнявший ментальный мир друга сумрачным зудом, замер, будто раздумывая над чем-то, потом продолжил свое вращение. Такой же, только поменьше, видел я у тети Любы в общаге всего несколько часов назад.
- Третий.
- Ясно.
- Что мне делать, Ваня?
- В каком смысле?
- Я хочу помочь тебе. Ты пойдешь к нему, и нужно будет, чтобы кто-то выручил тебя, если что.
- Что делать? А ничего! - Мне вдруг стало очень весело. Хотелось рассмеяться в лицо всей этой дурацкой жизни с ее ненастоящими друзьями и настоящими монстрами, похожими на людей. Я взглянул на Мея другими глазами. Не как друг, не замечающий слабости и недостатки. А как человек посторонний. Мне показалось, что сейчас я стою на вершине высоченной горы, а Мей - впервые не рядом, а внизу, с остальным миром. Образ был настолько четким, что у меня захватило дух. Стало холодно, от недостатка кислорода легкие разрывало, редкие, но мощные порывы ветра смели с меня остатки тепла. Я понял, чем были эти холод и ветер - дыханием одиночества. В душе всколыхнулся и тут же погас протест, я не хотел терять самого близкого человека. Но он сам отказался от меня, испугался, солгал. И сейчас я чувствовал, что больше не нуждаюсь в нем. Может быть, во мне говорила гордость и максимализм, но я не хотел видеть Мея. И помощь его я бы не принял.
- Ираклий не властен надо мной, - проговорил я, разглядывая нависшие над скамейками парка заиндевевшие ветви деревьев, - он мне не нужен. Я знаю, что могу питаться сам. Этот Лазарь Аронович только что подтвердил. О тебе они не знают, можешь спокойно оставаться в Краснодаре, Вовка уехал, а Бац - тоже птица вольная, на подъем легок. Подадимся куда-нибудь в Москву - фиг они нас там поймают. Надо только найти его поскорей. Вот этим я и займусь - поеду к его папашке, ему больше податься-то некуда...
- Почему он врал тебе, Вань?
- Кто?
- Ираклий. Он же сказал, что ты не выживешь, что без посторонней помощи не выживают. А ты говоришь, что можешь. Значит, он тебе соврал?
- Не знаю. Может, хотел испугать, привязать сильнее. Чтобы я наверняка нашел ему медальон.
- Тогда достаточно было бы взять одного из нас. В заложники.
- Они и пытались, да, видимо, не нашли никого.
- А если ты и вправду очень способный - как этот седой говорил? Может, это ты Ираклию нужен был, а не он тебе.
Я устало потер рукавицей выбеленный морозом лоб:
- Не знаю я, Николай. И выяснять не хочу. Какая теперь разница?
Он лишь пожал плечами.
Я задумался о том, как теперь будет складываться моя жизнь. Дороги, переезды, вечное бегство? Ну, почему же вечное? Что-то подсказывало мне, что в новой опасной жизни спасательным кругом может стать время. Я должен разобраться во всем, понять, что происходит. А уже потом предпринимать какие-то действия. Я знал главное - Даник ошибся, его смерть не была необходимой. По какой-то причине ему не открылось то, что известно мне - можно питаться, не убивая.
Итак, вернусь домой, соберу вещи и на вокзал. Сначала в село Красногвардейское к отцу Игоря, потом вместе с Бацем в Москву. Жаль дом - родительский дом, расставаться с которым нелегко. Ведь эти сволочи вполне могут спалить его. Я вспомнил бревнышко на заднем крыльце, где отец оставил матери последнее послание, и заколебался. Надо вернуться, обязательно вернуться туда. И забрать хотя бы этот столбик.
Расставались мы с Меем отстраненно, будто каждый жил в своей жизни, и это рукопожатие, возможно, последнее, ничего не значило. Холодный воздух не потеплел, глаза не исторгли слезинки. Во мне жила невысказанная обида, которую я даже не пытался задавить. А почему таким холодным и безразличным показался мне Мей, я не понял. Мне думалось, что человек, струсивший и отказавшийся помочь другу, должен выглядеть по-другому. Виноватым, что-ли...
------------------------------------------------
Задняя дверь скрипнула, и отчий дом встретил меня настороженной темнотой. Свет я включать не стал - и так знал здесь каждую мелочь. Минут десять просто ходил по комнатам и прикасался к вещам. От родителей в моем жилище осталось не много. Их фото в рамке на стене, еще черно-белое. Вышитое мамой полотенце: синие ласточки и зеленые листочки по полотняным краям. Я им никогда не пользовался, оно так и лежало внизу комодного ящика, под остальным бельем. Память. Мамино платье - персиковое, с кружевным лифом и юбкой "солнцеклеш". После ее похорон вещи я раздал соседкам да редким подругам матери, а это, самое ее любимое, в котором она бегала девчонкой на танцы - оставил. Вот, собственно, и все. Если не считать отцовской "Чайки" - часов, которые я и так носил, не снимая.
На сборы ушло минут пятнадцать. Деньги, оружие, белье. "Мыльно-рыльное", как говорят в армии - бритва, зубная щетка и прочие гигиенические принадлежности. Потом я заглянул в шкаф с инструментами, взял лобзик с толстым полотном и еще минут двадцать выпиливал "отцовское" бревнышко из поручней на крыльце. Дерево оказалось тяжелым, спрессовавшимся за долгие годы, и плохо поддавалось зубьям пилы. Как будто дом не желал расставаться с главной своей реликвией. Я подумал, что дерево - это символ наших душ. А пила - реальность, вырывающая из них самое дорогое. Я унес бревнышко домой, бессознательно баюкая его на руке, как младенца. Было темно, и я не мог видеть, как выглядят те самые буквы. Но пальцы привычно пробежались по ним, и в сердце потекла струйка теплой, ностальгической силы. Нет, пиле-реальности не под силу справиться с этим чувством. Что бы ни случалось в будущем, кое-что у нас не могут отнять никакие беды.