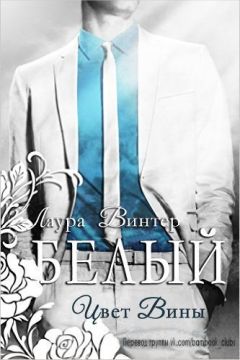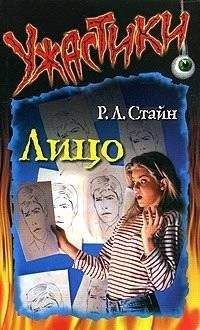Дэвид Клири - «Если», 1996 № 12
— Я как раз… — нелепая фраза застряла у меня в горле. Наверное, я совсем одурел, ведь я бы сразу все понял, если бы чуть-чуть задумался. Я перестал вырываться. — Пусти меня.
— Ты не уверен? — спросил он, отпуская меня.
— Уверен. — Я взял сумку с памятью и взглянул на искусственную луну. — Это не Сейна Маркс испортила мою память. Она мне друг. Должно быть, это мой мыслитель.
Я пошел обратно, вспугнув, наверное, тысячи голубей: они сонно взлетели в пластиковое небо.
Я купил память у продавщицы в Гефсиманском блоке: уцененную, синтетическую, завернутую в лентиловую фольгу. Продавщица, женщина в черном покрывале, не знала толком, что в ней. — Может быть, Сад, а может быть, Гора, — сказала она, посмотрев на кривую оливу, росшую в полосатом ограждении, — там о Страстях, о…
Я не разобрал последнего слова, а мыслителя, чтобы перевести, со мною не было. Но слово было значимое, судя по отблеску, легшему на морщинистые щеки старухи.
Спустя час мы поднялись над Иерусалимом, усевшись в просторном брюхе дракона по имени Мохаммед. Сиденья представляли собой снабженные кожаными подушками выступы его таза, образующие полукруг. Сквозь прозрачную синтетическую плоть легко было разглядеть биение его огромного сердца, работу мускулов, ферро-карбоновые кости, окружавшие нас, подобно каркасу здания. Позади серого фальшборта легких и снастей грудной клетки где-то вдалеке виднелась голова, покрытая бурой кожей.
Он ежеминутно хлопал крыльями, подбрасывая нас. Съеденные утром маслины и выпитое фиговое вино просились наружу. Лопоухому, казалось, было все равно.
— Виа Долороса, — сказал он, показав на километровой ширины проспект под нами. Тысячная толпа образовывала случайные цветные узоры, похожие на те, что бывают на памяти до форматирования. Я попробовал сосчитать. Ну, скажем, четыре человека на квадратный метр, а улица длиною около двадцати километров, шириной в один. Это значит, что…
Я не ведал, что это значит. Как не ведал, что значит присутствие рядом со мною Лопоухого. Он хотел удостовериться, что я благополучно доберусь до Куалаганга. Я дал ему понять, чтобы он не рассчитывал больше ни на одну память. Но он ответил, что и не рассчитывает, а просто хочет полетать на драконе, чего не делал уже давно. Причина казалась пустяковой, хотя я не мог бы объяснить, почему. Без мыслителя думать оказалось трудно.
Мохаммед сделал вираж, я ухватился за выступ позвоночника и только потому не свалился на Лопоухого. На горизонте виднелись каменные башни и искусственное солнце, горевшее, как расплавленный металл. Драконова чешуя отливала золотом так ярко, что я прикрыл глаза.
И тут же открыл их. Мы прошли сквозь небесный купол, он остался позади серой изогнутой поверхностью. Небо было желтым, с маслянистыми черными перистыми облаками, испещренное точками темных летательных аппаратов. В нескольких километрах от нас парила пищевая фабрика. Пахло серой, и это напомнило мои посещения Сейны Маркс.
Мохаммед резко взял вверх, затем, возможно, попав в подходящий воздушный поток, снизился. Теперь он летел ровнее.
— В молодости я был коридорным на скифском судне, совершавшем кругосветные плавания, — сказал Лопоухий. — Тогда люди любили путешествия.
— Почему? — спросил я.
— Ну… чтобы повидать мир.
Все, что нам было видно, это купол над Иерусалимом, похожий на луну, которую мы облетали.
— Повидать что? — вдруг я страшно разозлился. — Смотреть не на что! Нет ничего, что бы ты не видел в своем собственном блоке. У нас в Обо есть религиозные фанатики, есть порнографы, копии старинных домов. Есть искусственные солнца, и чувствительная протоплазма, и выращиваемая одежда. Есть гравитопланы и… — мысль застопорилась, вероятно, я дошел до того места, когда обычно вступал мыслитель. — Все то же самое. Каждый блок повторяется по всему миру. Путешествовать незачем.
— Но ты же путешествуешь, — заметил Лопоухий.
— У меня объявился двойник.
Он кивнул и засунул палец в левое ухо.
— Новое ничем не отличается от известного.
— Не совсем так.
За куполом Иерусалима и темными низко плывущими облаками вставали блоки, не отличимые от тех, что можно увидеть в Обо-Вэлли. А сквозь машущие крылья Мохаммеда просвечивали прицепные фалы летающих блоков: мне доводилось видеть то же самое из Высокого Обо.
Я с шумом полез в сумку с одеждой, вытащил сувенирную память. Сорвал упаковку из фольги, убедился, что пластинка на месте. Аппарат мог давать лишь один ракурс, но сейчас это было даже неплохо.
— Разбуди меня, когда мы прилетим в Куалаганг, — попросил я Лопоухого. Затем прижал рычажком пластину.
Я падал в колодец древности, годы слетали с моего ментального пространства, как чешуйки с рыбы. Я возвратился из зияющей дыры времени, встряхнулся, пришел в себя и сделал глоток вина, такого сухого, что поморщился. Я со стуком поставил чашу, плеснув красного вина на каменную столешницу; посмотрел на чашу, ее щербатый край, тонкую трещину, бежавшую по одной ее стороне. Тут я вдруг понял, что держал чашу левой рукой (наверное, и хлеб тоже, корка валялась на выложенном плитками полу), а в правой сжимал сумку, сжимал так крепко, что рука затекла. Я посмотрел вокруг, увидел, что сижу вместе с группой белокожих мужчин, часть которых носила, а часть брила бороды. Все они были одеты в грубые, тусклых оттенков сабды. Половина их — на дальнем левом конце длинного стола — разговаривала на незнакомом с протяжными гласными языке. Справа от меня трое застыли, в ошеломлении раскрыв рты. Молодой человек, сидевший по левую руку рядом со мной, спал, похрапывая, — наверное, упился до одурения; седой старик, стоявший позади меня, тряс молодого человека за плечо. Тот блаженствовал в пьяном беспамятстве. Слева от него сидел человек с длинными волосами, который, казалось, и был причиной тревоги остальных, причиной потрясения чувств. Но сам он казался отрешенным, отделенным ото всех; он молча смотрел вперед на пустое место во главе нашего стола, словно вспоминал забытую истину. Вот пьяный рыгнул, распространяя во влажном воздухе кислый запах, и старик позади него, подойдя ближе, обхватил его обеими руками. Он что-то пробормотал и обратился ко мне, очевидно, с просьбой помочь ему перенести пьяного в более подходящее место. Я перебросил ноги через деревянную скамью, встал и ощутил невыносимый приступ паники. Я поднял правую руку и увидел, что все еще держу тяжелую суму.
Ужасную ношу! Я показал на нее старику, как если бы она могла объясняться на языке, который мне был недоступен, затем пошел подальше от стола. Я шел не к пустоте во главе стола, а в другую сторону, к широким дверям, выходившим на бурые холмы под серо-голубым светом ранних сумерек. Шел быстро, замечая лишь тускло освещенные залы, ведущие от центра дома.
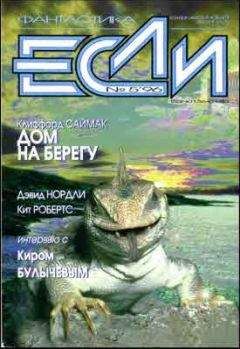
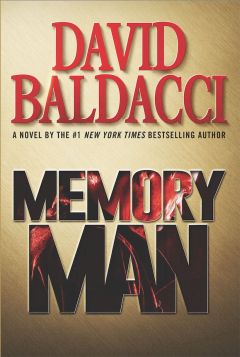
![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)