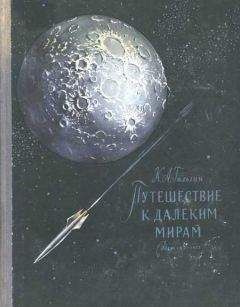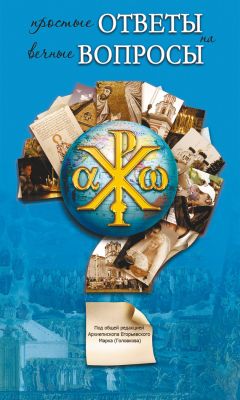Леонид Панасенко - Залив Недотроги
Так вот. В следующий раз, через месяц, Годар принёс молодой женщине гораздо больше рыбы, чем прежде. Анис побледнела, швырнула её ему в лицо и закричала сквозь слёзы:
— Проклятый слепец! Принеси мне веточку с дерева; цветок или красивый камешек. Зачем мне твоя рыба?!
— Выходи за меня замуж, — попросил рыбак и переступил с ноги на ногу.
— За тебя? — Анис расхохоталась, так и не вытерев слёзы. — Уж лучше всю жизнь одной молчать, чем вдвоём. Уходи!
А ещё через месяц она молча взяла рыбу и уже не заплакала. Только когда Годар собрался идти домой, сказала негромко:
— Ты хороший. Ты сильный и верный. Ты самый лучший рыбак в Сан-Риоле. Но это и всё. А мне этого мало. Не обижайся…
Годар так и не выполнил ни одной из просьб Анис. Приходил же регулярно, и вскоре к этому все привыкли, как привыкают к придорожному камню.
А годы уходили. Будто чересчур вежливые гости: уговорить не уговоришь, угощениями тоже не остановишь. Много лет так ушло.
Побелела голова Годара. Уже, наверное, не мерещился ему тот молочно-белый туман, не опутывал, будто невод, не слепил глаза. Высохла Анис. Старый шкипер давно-умер, и она жила теперь одна. С тем же гордым и никем не понятым сердцем. Годар приносил свои подарки и молча садился на перевёрнутую рассохшуюся лодку. Анис рассказывала ему свои нехитрые новости, иногда кашляла. В городке поговаривали, что у неё чахотка.
Как-то весной сорвался шторм. Два дня нападал он на берег и ломал всё, что мог сломать. Годар теперь редко ходил в море. В то ненастное утро он чинил дома сети и слушал грохотание ветра. Какое-то беспокойство поселилось в его сердце: может, поэтому бечева то запутывалась, то ни с того ни с сего рвалась. К вечеру шторм поутих. Годар сел в лодку и поспешно погнал её к противоположному берегу залива, однако на полпути повернул обратно. Улыбаясь и мыча что-то непонятное, он забрался в заросли черёмухи и стал ломать прибитые ветром ветки. Они одуряюще пахли, несмотря на то, что их два дня полоскал дождь. Годар ломал и носил ветки в лодку. Ломал, пока не наполнил её до краёв.
Ещё на ступенях из ракушечника, которые сам проложил от берега к дому шкипера, он услышал голоса, женский плач. Окно Анис ярко светилось. Годар замер. Затем медленно, будто ноги его увязали в том ракушечнике, подступил к окну. Анис обмывали. Годар третий раз в жизни увидел молочно-белый туман, который опутывал, будто невод, слепил. Только на этот раз не было у тумана зелёных насмешливых глаз…
Он не вошёл в дом. Не разбирая дороги, раня себя, спустился к берегу. Долго искал весло, которое лежало рядом, перед ним…
Утром следующего дня санриольцы нашли Годара мёртвым. Рядом с ним лёгкая волна качала лодку, заполненную до краёв увядшей черёмухой».
Вскрикнула чайка и разрушила наше молчание.
— Жаль их, — вздохнула Ирис. — Их не поразила молния взаимопонимания.
— Обоих — это слишком. Идеальный вариант, — улыбнулся Грин. — Хватило бы, если бы хоть кто-нибудь один понял другого.
— Тут ещё в характере дело, — сказал я. — Всё они понимали, да только приспособиться друг к другу не могли. Преодолеть себя.
— Ладно, Лён, — заключила девушка. — Ты пока преодолевай себя, а я пойду на почту. Мама разговор заказала. И не забудь о раковине — я жду продолжения.
Через полчаса Александр Степанович тоже попрощался, и я отправился домой.
На крыльце с отсутствующим видом сидел Кузьма Петрович. Я решил не заговаривать с ним — человек отдыхает или где-то мыслями бродит, зачем его трогать. Но дед вдруг шумно вздохнул и спросил:
— Ты чего так ходишь: всё бочком да молчком?
— Мешать не хотел, Кузьма Петрович.
— То зверь только может друг другу помешать. А мы люди, человеки. Пробуй винцо, квартирант, — и дед налил полный стакан.
Я сделал несколько глотков: душистое, чуть сладковатое, как раз такое, как я люблю.
— Пей, сынок. Графин большой, я один не управлюсь.
— Хорошее у вас вино, Кузьма Петрович. Нектар! — похвалил я.
— Коля Зинчук говорил, что ты фантазии разные пишешь!
— Пробую.
— А о чём фантазии? — стал допытываться дед.
— О будущем. Как люди дальше будут жить. Скажем, через сто лет или двести.
— Ага, ясно, — кивнул Кузьма Петрович. — Брехня, значит, всё…
Я умолк, обескураженный таким поворотом разговора.
— Ты лучше о любви напиши, — задумчиво предложил дед. — Чтобы через двести лет прочли люди и заплакали. Вот это будет фантазия…
И уже с тоской, полуутвердительно:
— Небось, нашёл проход в скалах? Открылся он тебе?
«Залив Недотроги, — подумал я. — Значит, Кузьма Петрович знает о нём. А не сказал… Нет, говорил, здесь выхода к морю».
— Я-то нашёл. Ещё в первый вечер. А вот почему вы…
— Не спрашивай, сынок! Ничего не спрашивай, — дед наклонил голову, как бы заглядывая в свой стакан. — Всё было… Я там ещё мальцом купался. И после войны был, хотя, кажется, на войне всякий запачкается…
— Не понял вас.
— А что тут понимать, — Кузьма Петрович махнул рукой. — Чистым туда вход открывается. Чистым душой… А я после войны всё счастья искал, красивой жизни. Приторговывал… Шкуру с вашего брата, курортников, драл: у меня тут каждое лето дюжина квартирантов жила. А главное — Настю, жену свою, обижал. Вот мне туда и запретили вход…
— Где же ваша Настя сейчас, Кузьма Петрович? — спросил я, веря и не веря его рассказу.
— У старшего сына, в Симферополе. Внучку нянчит. А я сижу здесь как пень…
Я промолчал. Ну что ты скажешь в такой ситуации?!
Кузьма Петрович опять ушёл в себя. Я допил вино и, стараясь не наткнуться в темноте на какой-нибудь из ульев, направился к своей времянке.
Раковина лежала на столе, рядом с исписанными листами бумаги. Я прижал её гладенькую створку к уху, приготовил шариковую ручку. Раковина проворчала что-то укоризненное, мол, приходишь поздно, и тихий голос сказал:
«Каждое дерево казалось ему теперь прекрасной натурщицей».
«Каждое дерево казалось ему теперь прекрасной натурщицей. Каждое дерево просило вечной жизни на холсте. Мигель осмотрелся. Вот это похоже на растрёпанную голову старой женщины. Рядом — дерево-костёр. Вон как извиваются языки зелёного пламени…
Мигель мазок за мазком кладёт на картон краски. Это дон Рамирес принёс ему краски, картон, кисти и две книги о великих художниках. Беда только, что Мигель не умеет читать. Зато рисунки можно разглядывать целыми днями.
— Добрый дон, славный дон, — весело напевает мальчик. — Щедрый, добрый, славный дон…
— Отец зовёт. Беги скорей, — это голос кухарки. Улыбка тотчас погасла. И горб будто сразу подрос. Мигель спрятал свои сокровища, бегом заспешил к замку. Сам спешит, а ноги словно травой стреножены — так не хочется идти.