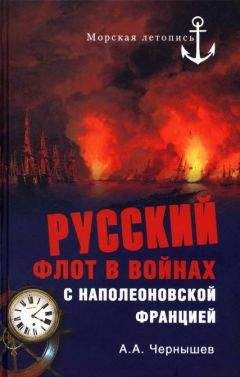Владимир Контровский - Последний офицер
«Да, – подумал Ильин, – можно понять мужика…».
– Долго ли, коротко ли, – вдохновенно продолжал рассказывать каплей, – но пришло к нашему доброму молодцу похмелье. Приметил он, что еда дерьмецом отдаёт, что по углам хоромы крысиные глазки посверкивают, и что за лицами девок ведьмячьи хари проступают. Вскинулся воин и давай искать хозяина заведения, чтобы, значит, меч свой вернуть. Да только нет нигде плешивца – как в воду канул, вместе с мечом. Тут-то и понял парень, что развели его на сладком, как пацана. Порушил голыми руками всё здание – девки в лягушек превратились и в озеро попрыгали, роскошь золочёная черным прахом рассыпалась, – а что толку? Крючконосого и след простыл!
И с тех пор бродит этот воин по Руси, ищет того колдуна, чтобы поговорить с ним очень задушевно. А главное – меч свой вернуть хочет, потому что пришла пора его в дело пускать: враги кусок за куском от державы отхватывают, да изнутри плесень лезет из всех щелей. Вот такая сказочка, товарищ лейтенант.
– Да, со смыслом байка. И найдёт воин свой меч, как ты думаешь, товарищ без пяти минут кап-три?
– Я так думаю, – очень серьёзно ответил Пантелеев, – что в поисках этих воину надо помочь, потому как…
Он не договорил – в дверь каюты постучали.
– Да! – отозвался капитан-лейтенант, отработанным движением закрывая ящик стола, в котором размещались фляжка, гранёные «пусковые шахты» и нехитрая закусь: в условиях, «приближенных к боевым», сервировать «банкет» в открытую считалось признаком дурного тона. – Войдите!
На пороге возник мичман-контрактник.
– Товарищ капитан-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу лейтенанту?
– Обращайтесь.
– Товарищ лейтенант, вас вызывает командир.
«Зачем я понадобился „бате“? – размышлял Ильин, шагая по коридору – Грехов за мной вроде не числится… Не вовремя, чёрт, – амбре от меня, а „батя“ на этот счёт строг: не разделяет он утверждения „флотский офицер должен быть слегка выбрит и до синевы пьян“, предпочитая оригинальную формулировку российского императорского флота „до синевы выбрит и слегка пьян“. И вообще – по военной геометрии, „кривая любой формы всегда короче прямой, проходящей в непосредственной близости от начальства“.
– Разрешите? – спросил Дмитрий, переступая комингс. – Товарищ капитан первого ранга, лейтенант Ильин по вашему приказанию прибыл!
Командир окинул молодого офицера цепким взглядом и буркнул сердито:
– Плохо службу начинаешь, лейтенант. Что, желудочный отсек «шилом» промывал? Смотри у меня – ещё раз замечу, вздрючу во все пихательные и дыхательные, не посмотрю, что особых претензий у меня к тебе пока что не имеется.
Дмитрий почувствовал, как у него запылали уши. До сих пор он ни разу не слышал от «бати» худого слова: командир мог служить иллюстрацией к фразе «строг, но справедлив».
– Ладно, – смягчился каперанг, – не за тем тебе звал. Мать у тебя умерла, лейтенант, – такие вот дела. Даю тебе неделю – лети в Питер, сделай там, что надо… Один хрен, – он тяжело вздохнул, – стоим у пирса, как «Аврора» на вечной стоянке… Документы тебе уже оформляют – заберёшь у писаря. Всё, Ильин, свободен – иди.
* * *– Вот, Димочка, и остался ты сиротой, – Мария Сергеевна, соседка по лестничной площадке, горестно покачала головой. Она знала Дмитрия с детства, и даже была для него кем-то вроде няньки – присматривала за мальчишкой, если возникала вдруг такая нужда. И сейчас она смотрела на него так, как издавна добрые русские женщины смотрели на сирот. И неважно, что сироте уже двадцать три года, что на его плечах офицерские погоны, и что приставлен он к самому страшному оружию, изобретённому хитроумным человечеством, – для старушки, давно вырастившей собственных детей и тщетно дожидавшейся внуков, Дима так и остался малолетним сорванцом, за которым нужен глаз да глаз.
Мария Сергеевна помогала Дмитрию с поминками, по-хозяйски занявшись столом, а после ухода гостей задержалась прибраться и помыть посуду – до того ли сейчас Димочке?
– Спасибо вам, тётя Маша, – глухо проговорил Ильин, отрешённо глядя в окно.
– Да не за что, сынок. Обидно как-то – маме твоей было ещё жить да жить, какие это годы? Да только инфаркт – он возраст не спрашивает.
«Да, – подумал Дмитрий, – это точно. Не спрашивает, особенно если этот инфаркт – уже второй…».
Он хоть и был поздним ребёнком, но мать его была далеко не старухой: она ещё даже не вышла на пенсию и продолжала работать во Всероссийском НИИ растениеводства имени Вавилова на Исаакиевской площади. Первый инфаркт с ней случился, когда погиб в море отец Дмитрия: моряки иногда умирают не дома – бывает. Узнав о гибели мужа, она молча упала пластом и наверняка бы не выжила, если бы не сын – Диме было тогда тринадцать. И она не ушла вслед за любимым – осталась жить, чтобы вырастить сына. И вырастила, и снова не вышла замуж, хотя едва сводила концы с концами – в девяностые годы над её зарплатой смеялись не только куры, но и расплодившиеся в городе вороны. И не возражала, когда сын решил стать военным моряком, хотя Дмитрий видел, что она еле сдерживает слёзы.
И ещё мать любила свою работу: как пришла в институт Вавилова после окончания университета, так и проработала там тридцать лет. Дмитрий помнил, как она приводила его в институт и показывала смена уникальных растений, собранных со всего света. «Они сейчас спят, – говорила мама, – но если их бросить в землю, из них вырастет хлеб, и плоды, и ещё много чего вкусного и полезного на радость людям. Это сокровища, сынок, и даже в блокаду никто не съел ни единого зёрнышка из этой коллекции, хотя люди страшно голодали».
Что такое блокада, маленький Дима уже знал: об этом рассказывала бабушка, мамина мама, совсем ещё девчонкой пережившая в Ленинграде это страшное время. Блокада – это когда темно, холодно, очень хочется кушать, а с тёмного неба падают чёрные бомбы. И Дима смотрел на семена в стеклянных колбочках и думал о людях, которые не съели эти семена. И не знал он тогда, что из-за этих вот семян его мама – самая хорошая мама на свете – умрёт.
На престижное здание в самом центре города кое-кто зарился уже давно – очень уж хотелось чиновникам-бизнесменам из окна своего кабинета, отделанного под евростандарт, поглядывать свысока на конную статую государя-императора и испытывать гордость от своей крутости. И упорно проталкивалось решение о переезде института – не по чину каким-то ботаникам занимать такое здание и путаться под ногами у деловых людей. Директор НИИ резко возражал, доказывая, что при переезде неминуемо будет нарушен температурный режим хранения, что приведёт к гибели всей генетической коллекции – той самой, которая пережила блокаду. Против намерения властей выступили крупнейшие мировые научные и общественные организации и четыре нобелевских лауреата, и всё-таки институт не выдержал многолетней осады. Решение о переселении было принято, а мать Дмитрия Ильина настиг второй инфаркт, ставший для неё роковым…