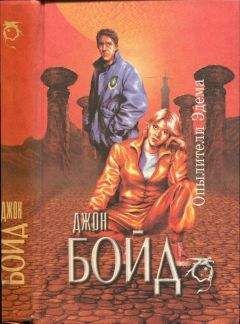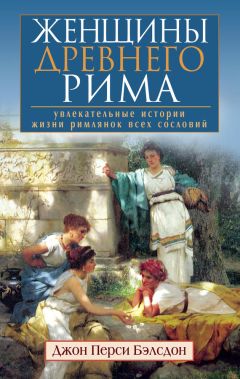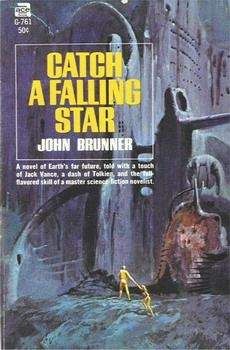Джон Бойд - Опылители Эдема
— Интересно, как же вы это сделаете?
— Поверните ключ вон в том замке, — сказала она, — и положите ваши зубы на письменный стол.
Фреда установила, что отец доктора Кемпбелла был настолько слаб, что сын не мог отождествлять себя с ним, поэтому Джимми сам стал образом своего собственного отца и сумел сыграть роль этого суррогата так здорово, что подавил подрастающего мальчика. Когда его проблема была, наконец, проанализирована, доктор Кемпбелл стал реагировать на проводимое ею лечение с воодушевлением. Вместе с образом отца постепенно исчез и его измученный вид, и то, что он потерял как психиатр, он приобрел как мужчина. На смену сопереживанию пришел характер.
По Истечении шести недель Джимми Кемпбелл вышел в отставку и оставил госпиталь, чтобы стать автомехаником. Его последним содействием Фреде было объявление ее неизлечимо больной.
— Это ничего не даст, Фреда, — сказал он, — потому что этим записям никогда не будет позволено покинуть пределы нашей психушки, но чего бы вы ни пожелали, вы от меня получите. Мы, гуманисты, должны держаться вместе.
Доктора Кемпбелла сменил фроммист по имени Уильямс, который продержался только две недели. Его философия любви и заботливого обхождения была так усилена и упрочена его пациенткой, что он был уволен из штата госпиталя за то, что добивался благосклонности сестры-сиделки, которая убежала от него и заперлась в шкафу для белья. Уилма, которая стала надежной линией связи с госпитальными радикалами, сказала Фреде, что он отправился в Голливуд, чтобы стать кинопродюсером.
Он ушел слишком быстро, поэтому не успел дать рекомендацию о высылке Фреды на Флору, он оставил несколько любопытных добавлений к ее библиотеке. Даже Уилма заинтересовалась «Источником одиночества» и попросила дать ей книгу почитать.
Ее фроммист был заменен фрейдистом, которого звали Смит; он принес ей экземпляр «Теории неврозов», который оказался для нее бесценным пособием, когда она стала помогать доктору думать, что он себя понимает; однако ему пришлось подать в отставку в силу специфических обстоятельств. При всей интенсивности концентрации внимания на ее психике, руководство госпиталя несколько упустило из виду ее соматику, и в середине третьего месяца пребывания в Хьюстоне вдруг обнаружилось, что Фреда уже два месяца беременна. Ее фрейдист Смит, который мало что знал вне сферы своей деятельности, отказался продолжать лечение, полагая виновным себя.
Ей, по крайней мере, он дал именно такое объяснение. Но у нее были на этот счет сомнения. Ее состояние становилось очевидным даже для приходящей уборщицы, и Смит поведал ей, что станет скульптором и посвятит остаток дней своих воссозданию в мраморе ее торса.
— Ни рук, ни головы, Фреда, — только груди.
Она сказала «до свидания» еще одному гуманисту, чувствуя, что он выбрал подходящий род занятий. У Смита были сильны эдиповы наклонности.
Затем Фреда понесла наказание — целых три недели у нее вовсе не было психоаналитика. По своим каналам Уилма держала ее в курсе дел. Госпитальное руководство, озабоченное тем, что она с такой скоростью лишала госпиталь психиатров-аналитиков, а также ее беременностью, в которой, как они полагали, повинен кто-нибудь из госпитальных служащих, вводило в штат какого-то павловиста из Кейп-Кода. Этот павловист, как поняла Уилма, создавал у своих пациентов условные рефлексы посредством какого-то непрерывного шокового лечения, до того неприятного, что они просто стремглав неслись к здравомыслию, лишь бы избавиться от такой терапии.
Это был доктор Уотс. Она побоялась спросить, как его зовут. Он был выходец из Новой Англии, топорно срубленный в духе готики Среднего Запада, рыжеволосый, с поджатыми губами, квадратным подбородком и бледно-голубыми глазами, которые смотрели сквозь нее, когда он заговорил. У него был властный вид капитана Блая, и ему было далеко за шестьдесят. Возраст не был помехой для эффективности применяемого ею метода воздействия, но беременность обратила мысли Фреды на ее внутренний мир. Умение осознавать чужие нужды не утратилось, их осознание просто оставалось немного в стороне, когда она пристально всматривалась в зревшее в ней произведение ее любви к Полу Тестону.
Она надеялась, что ее будущее дитя — это ребенок Пола Тестона. Короткий период бездействия между Полом и Гансом оставлял почву для сомнений, однако в любом случае, у ребенка будет отец, которым можно гордиться. Поскольку Джимми Кемпбеллу она заменяла образ отца, очень маловероятно, что она будет матерью его ребенка.
Она даже не переносила образ орхидеи на доктора Уотса, главным образом потому, что ей не нравилась линия его поведения. Он вызывал какую-то неприязнь, которая заключала ее смекалку в такие рамки, где она не могла отыскать ни единого повода для того, чтобы его утешить, особенно если учитывать, что возможности применения ее главного средства многократного утешения быстро терялись. Торс, который подвигнул фрейдиста сделаться скульптором, становился, так сказать, бесформенным.
Уотс, видимо, очень внимательно изучил историю ее болезни и прослушал ленты всех записей, потому что пришел к таким заключениям, которых, как Фреда чувствовала, в записях наверняка не было. Уже то, как он поздоровался с ней, впервые войдя в палату, обнаружило, какой он буквоед.
— Вы назначены ко мне, мисс Карон, — он подчеркнуто назвал ее «мисс», бросив презрительный взгляд на свободное платье, призванное скрывать беременность, — потому что на чужой планете вы пристрастились к саду наслаждений, что очень исказило ваши реакции в системе раздражитель — рефлекс в сторону рефлекса. Плоды вашего поведения видны невооруженным глазом, но я здесь — чтобы помогать, а не выносить приговор. Если бы я стал порицать вас за эту пародию на христианское материнство, какая-то доля моего порицания могла бы пасть на моих братьев по профессии, посвятивших себя делу облегчения человеческих страданий, или, может быть, на целый боевой расчет медбратьев, санитаров, разносчиков, которые могли бы оставаться невинными, либо на кого-то там еще, выползавшего Бог весть из какой щели. Я не какой-нибудь размазня, на словах желающий блага обществу и порицающий его за грехи отдельных членов. Это ваш грех, мисс Карон.
— Неужели вы такой жестокий, доктор?
— Это не жестокость. Это голая правда! Именно правда сделает вас свободной, а правда состоит в том, что вы извращаете любое, самое благородное, проявление женственности, низводя его до примитивного средства получения удовольствия не выше уровня чресел. Раскаяние поможет; искупление излечит. Гуманисты, мисс Карон, это прокаженные двадцать третьего века, но я — не Святой Франциск.