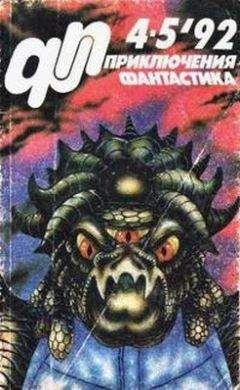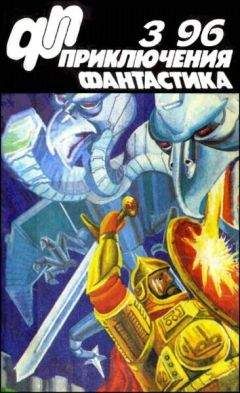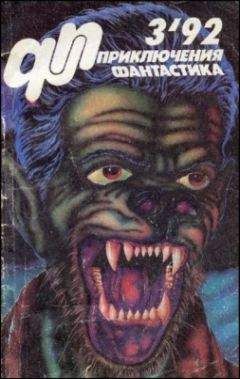Юрий Петухов - Журнал «Приключения, Фантастика» 2 95
— Я прошу всех встать.
И все встали. Почти все. Я даже испугался этого дружного, чуть ли не армейского вставания. Остались сидеть немногие. В нашем секторе это были мы с Андреем, стриженый парень слева от нас (не суд, мол, вскакивать тут, что-то подобное крикнул он в нашу сторону, ожидая поддержки) да еще старушка, которая, судя по ее отсутствующему виду, не очень-то сознавала, зачем она здесь оказалась.
— Слово Грэма Шуллера — это полет радости в Вашем сердце! — патетически (по законам жанра) продолжал Бжезинский. — Примите его в ваши сердца и оно навсегда облегчит вашу душу!
Грэм Шуллер был академичен: черный смокинг, аккуратная бабочка и белоснежные воротничок и манжеты. Он даже больше походил на конферансье или церемониймейстера, чем расфуфыренный Бжезинский. Лицо его действительно было добрым и располагающим. Ничего не было в нем, что могло бы насторожить собеседника. Но и не было в нем настоящей открытости. Как это объяснить? Что взять за эталон открытости? Да возьмите любую улыбку Гагарина с любой фотографии и Вы увидите ее! Улыбка Грэма Шуллера была тренированной! И была в каждом его слове, в каждом его жесте. Он был обаятелен и невелеречив, и все же мелькало в нем показушное, театральное, может быть, это была навеваемая им самим и его окружением причастность к сверхъестественному. Как он не пропевал каждую фразу (заставляя, между прочим, повторять за собой целый стадион) — но акцент иностранца вливал в бочку меда ложку фальши. И все же три четверти сидящих на стадионе заворожено слушали, повторяли всяческие нелепости, когда он требовал этого, и мамаши пши-кали на баловливых неугомонных детей, чтобы те заглядывали в рот иностранного кумира. Была в этом какая-то магия, раз целая толпа еще недавно самых отъявленных атеистов сознательно участвовала в этом словесно-музыкальном колдовстве. И даже умытое весной чистое голубое небо над Центральным стадионом тоже колдовало, выполняя роль безоблачной декорации. И неслись в него усиленные мощными динамиками слова, наспех переведенные на русский язык, но все же до конца непонятных шуллеровских молитв.
Кульминацией зрелища стал обещанный танец «хромоножек». Якобы вдохновленные общением с Шуллером, они отбросили костыли и трости и очень правдоподобно, прихрамывая, на нетвердых (но все же ходячих) ногах устремились с трибун к сцене, плакали и обнимались. Кто-то встал с инвалидной коляски. У некоторых перестали трястись руки, дергаться глаз, и мальчик, которого принесли на руках (интересно, почему именно этого мальчика заметил весь стадион и говорили потом именно о нем?), сделал несколько несмелых шагов, чем привел публику в изумление и вызвал реки умильных слез. Если бы на сцене не подвывал этому всеобщему ликованию Бжезинский, я бы со спокойным сердцем принял исцеления за чистую монету. От знаемой подстроенности меня просто воротило. Андрей же потом утверждал, что в воздухе и без того пахло дешевым обманом, поэтому он сквернословил сквозь зубы и презрительно щурился. И даже благая идея и речь проповедника не могли вытравить из нас чувства стыда за всех, кто присутствовал при этом цирковом действе. Никто из этих удивленных горожан не увидит, как суетливые помощники Бжезинского скрупулезно соберут инвентарь: трости, костыли, укатят Инвалидную коляску, а профессиональные актеры захолустных театров сядут в тот же поезд, что и Грэм Шуллер, чтобы поражать чудесами исцеления жителей других пасмурных городов. И даже если кто-то скажет об этом вслух, как это делаю я, ему не поверят, потому что верить Грэму Шуллеру легче, проще и выгоднее, потому что ему хочется верить. Он «приносит радость и счастье» и ничего не требует взамен.
— И ведь действительно хочется чуда! Махом и оптом! Чтоб без покаяний и страданий! Раз, два — и чудо! И хорошо, блин, всем вокруг. И охреневшее голубое небо над головой, — сказал, почти выкрикнул сидевший рядом со мной поэт.
От братства всех народов перешел Грэм Шуллер к «Америкэн перпетум мобиле». Нет смысла и желания повторять его бред об общечеловеческом прогрессе. Речь Горбачева с американским акцентом — вот что это было. Разница только в том, что горбачевское многословие не являлось тонко продуманной рекламой одной отдельно взятой компании, тот рекламировал целый образ жизни. И не раздавал Горбачев задремавшим слушателям после своих выступлений бесплатных библий, изданных в Чикаго. Я сказал об этом сравнении Андрею. Сначала он чертыхнулся, затем перекрестился:
— Свят, свят, свят… Не к выборам будет помянут.
У небольших лотков, где раздавалась бесплатная литература, оснащенных лучшими штатовскими компьютерами, можно было расстаться со своей биоэнергетической субстанцией, которая, оказывается, осложняла человеку его существование на бренной земле. Как по инерции, как за последней стадией шуллеровского исцеления к лоткам выстроилась очередь.
— Я где-то читал, что первый такой компьютер стоил по воле своих создателей 666 долларов. Совпаденьице, мать их в сельсовет! — это сказал Андрей, рассматривая мигающую экраном персоналку. — Да и яблоко надкушенное на нем изображено.
— Ну и что, что 666? — пожал я плечами.
— Число зверя, дьявола — вот что! — раздраженно пояснил Андрей, и взяв с лотка мини-издание Нового Завета, сунул его мне в карман. — Хотя бы такой, американский, прочитай, чтобы детских вопросов не задавать.
— А я читал: «Макинтош» — лучший в мире компьютер.
— А я не возражаю…
На вечернее выступление Грэма Шуллера для молодежи, где должны были выступать еще известные рок-группы, мы с Андреем не пошли, хотя Бжезинский торжественно обещал незабываемый взлет популярности «Америкэн перпетум мобиле». Я же объяснил ему, что этот взлет начинался в подвальной забегаловке на вокзале. И потом, когда мы пили с
Андреем водку на моей захламленной кухне, я признался ему, что сегодня испытал жуткий приступ ненависти к своей фирме, а сейчас мне вообще тошно. Услышав это, Андрей скривился и покачал головой:
— Похоже, тебя только водка и может разгипнотизировать.
— Он взял с полки томик Достоевского и, полистав, вдруг стал читать вслух: — Народ божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше, — и, помолчав, захлопнул книгу. — Предсмертные наставления старца Зосимы. Девятнадцатый век. Пророк Достоевский. Стадо… Толпа! Интересно, чем были заняты в это время наши священники?
Тогда я не понял, что так беспокоило Андрея. Меня больше волновало происходившее во мне необъяснимое беспокойство.