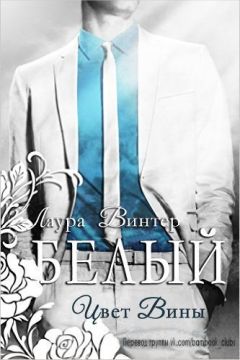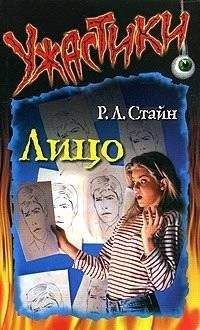Дэвид Клири - «Если», 1996 № 12
Спасло меня, наверное, чудо. Не знаю как, но я, точно бревно, скатился вниз по склону поляны, саданул боком о пень, вскочил на ноги, побежал, прыгнул, упал, вскочил снова. Лодыжку точно переломило, плеснув болью. Кажется вывихнул, ступить на правую ногу было нельзя. Мертвой пылью белела впереди проселочная дорога. Помогая себе руками, я от сосенки к сосенке запрыгал дальше по склону, кое-как, на четвереньках, со стоном перебрался через канаву и, как куль с картошкой, рухнул на грунтовое покрытие. Ногу жгло, мне было ясно, что бежать я не смогу. Колея одним концом заворачивала в чащобы, а другим поднималась среди полей к далекому горизонту. Под прозрачным небом обрисовывалась горстка домиков. Стало уже гораздо светлее: крыши их слегка подрумянились. Розовели корочки облаков, вот-вот должно было показаться солнце. Для меня, однако, все было кончено. Кусты можжевельника на обочине затрещали, черная, словно в гидрокостюме, фигура выломалась оттуда, повернулась всем туловищем туда-сюда, как локатор, и, наверное, запеленговав, двинулась в мою сторону.
В испарениях утра она выглядела действительно черной в слое влажной земли, поверх которой болтались лохмотья одежды. Отбеленные кости черепа прорвали кожу, а глазницы, как гнойники, желтели в глубине слизью. Волна земляного запаха накатывалась впереди нее. И вдруг струпья губ треснули, образовав полукруглую щель, мертвец всхрапнул, точно лошадь, втянул воздух и извлек из себя сип старого патефона:
— Где вы? Я вас плохо вижу, Александр Михайлович!..
Несмотря на все искажения, я узнал голос Герчика. Но я, даже узнав, уже ничего не мог сделать. Я мог лишь отползать по дороге, помогая себе руками. Жидкий край солнца показался в это мгновение из-за горизонта. Туман заискрился, теплые лучи коснулись приближающейся фигуры, и — внезапно струйки дыма поднялись у нее над плечами, лохмотья одежды вспыхнули, синее студенистое пламя потекло из глазниц, Герчик зашатался, точно потеряв равновесие, и вдруг, не сгибаясь, грохнулся всем телом о грунт. От удара локти и голени его подскочили, пламя хлопнуло, как в ладони, и тут же опало, а бугристое, видимо, прогоревшее изнутри туловище, громко хрустнуло и вытянулось, точно в судороге.
6Прошло несколько лет. Какие только события не пробушевали в России за это время: выборы в новый парламент, изнурительная, бессмысленная и бездарная война в Чечне, чуть было не развалившая страну, снова выборы — на этот раз уже Президента России.
Это были, однако, лишь внешние, доступные, так сказать, реалии. Что в действительности происходило в структурах власти, я мог лишь догадываться. Я ушел из политики, и все источники информации тут же отрезало. Я как будто перестал существовать для некоторых своих бывших коллег. Гришу Рогожина, скажем, я видел теперь только по телевизору: сдержанный, весьма представительный чиновник высокого ранга, элегантный, серьезный, ответственно относящийся к делу. На приемах и встречах его показывали неподалеку от президента. Он мне даже ни разу не позвонил, хотя бы из вежливости. Правильно, зачем? Политически я для него был человек конченый. Кабинеты Кремля ревниво оберегают свои секреты. Так что какие-то выводы я мог делать лишь по косвенным признакам. Например, я знал, что после событий 93-го года президент долго болел, лежал в «кремлевской» больнице, находился под наблюдением медиков. В Государственной думе даже обсуждался вопрос о его дееспособности. Выглядел он и в самом деле неважно: неуверенные движения, рыхлый, какой-то севший голос. Одно время я думал, что он тоже человек политически конченный. Незадолго до выборов рейтинг его не превышал десяти процентов. Аналитики хором предсказывали катастрофическое поражение. И вдруг что-то случилось: голос его обрел яркий звук, в действиях и особенно в выступлениях начала ощущаться внутренняя энергия. Он даже помолодел — кожа на лице стала упругой. Трудно сказать, кто сейчас делится с ним своей энергией. Судя по частой смене советников в президентской администрации, в основном из интеллигенции, стремящихся к реальным реформам, еще многие готовы пожертвовать всем для продвижения страны к демократии. Эти иллюзии сохраняются. Не случайно тот же Гриша Рогожин выглядел при нашей последней встрече таким осунувшимся. Но возможен, разумеется, и совсем другой вариант.
Я, конечно, не верю ни в бога, ни в дьявола, ни в комариный чох, но, наверное, не случайно у всех народов существует специальный обряд погребения: закапывание в землю, сжигание на священном костре или, как у древних зороастрийцев, отдание усопшего в пищу грифонам. Есть, по-видимому, во всем этом некая магическая определенность — чтобы мертвые не возвращались и чтобы они не странствовали потом в мире живых. Тело должно истлеть, в этом спасение. Пока Мумия не погребена, она сохраняет свою власть над людьми. И мне становится не по себе, когда я вижу гробницу, стоящую до сих пор на Красной площади, зловещий темный прямоугольник дверей, пять тускло-золотых букв над входом. Он кажется мне воротами в Царство Мертвых. Я смотрю потом на политиков, заполонивших экраны — как они улыбаются, как вдумчиво и серьезно рассуждают об экономике, как они рвутся защищать нас от самих себя, как они заклинают нас сделать правильный выбор — и все время жду, что вот сейчас часть щеки у одного из них отслоится, точно краска, осыплются с нее хлопья пересохшего макияжа, лопнет эластичный дорогой пластик на скулах и сквозь маску на-. родного избранника проглянут желтые кости черепа. Мертвые уже дав-. но правят нами.
Может быть, я, конечно, преувеличиваю опасность. Ежедневно по радио и телевидению я слышу речи о необходимости компромисса, о том, что время непримиримой вражды закончилось, нет ни белых, ни красных, ни черных, ни оранжевых в крапинку. Все мы теперь едины и все — одного серо-буро-малинового цвета. Главное сейчас — согласие, спокойная обстановка в стране. И я сам, кстати, тоже вовсе не противник разумного компромисса. Напротив. Я всегда считал, что худой мир лучше доброй ссоры. Но бывают ситуации, когда компромисс невозможен.
Это, видимо, потому, что я иногда ЕЁ чувствую. Точно невидимый ветер вдруг продувает меня, выметает обрывки мыслей, сумбур настроения. Сознание очищается, устанавливается тишина, как при включенном приемнике. Нет ни звука, ни шороха, но дыхание черного мира слышится очень ясно. Будто холод испаряющегося эфира обдает мозг. Незрячие чужие глаза изучают меня. Продолжается это секунд десять — пятнадцать, не больше. Но потом до конца дня у меня дико ломит в висках, и даже солнечный свет кажется преисполненным мерзости. Он мне напоминает о том, как от его первых лучей вспыхнула на лесном проселке фигура Герчика.
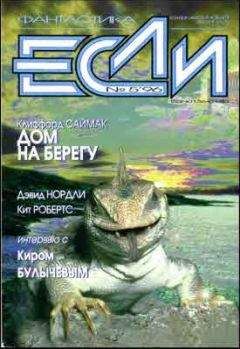
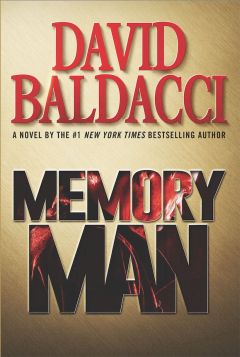
![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)