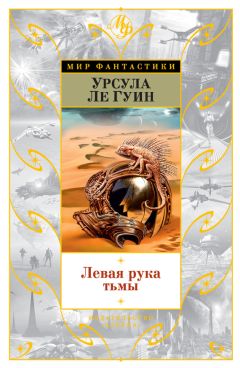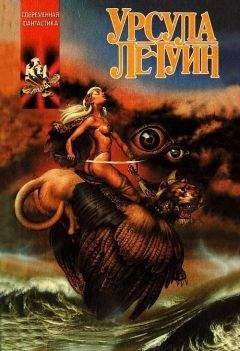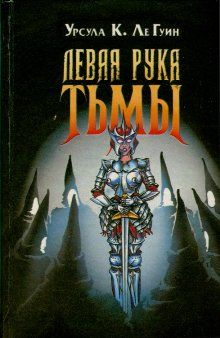Урсула Ле Гуин - Левая рука тьмы
Через час после ужина, если позволяла обстановка, Эстравен приглушал жар печки, и свечение ее становилось еле различимым. Сделав это, он бормотал про себя краткие звучные строчки, единственные ритуальные слова, которые я знал из Хандарры:
— Да будет благословенна эта тьма и вечная незавершенность Творения, — говорил он, и наступала тьма. И мы засыпали. К утру нас ждали дела.
Так мы существовали уже пятьдесят дней.
Эстравен продолжал вести свой дневник, хотя во время пребывания на Льду он редко записывал что-то еще, кроме упоминания о погоде и пройденного расстояния. Среди этих заметок иногда встречались его собственные размышления или упоминания о наших с ним разговорах, но ни слова, касающегося наших откровенных разговоров, занимавших все время между обедом и сном во время первого месяца путешествия, когда у нас еще хватало сил вести долгие разговоры или в те дни, когда мы пережидали бури в палатке. Я объяснял ему, что мне ничего не запрещено, но я не собирался использовать паравербальную речь на планетах, не входящих в Содружество. Я просил его припомнить все, что он знает о своем народе, в крайнем случае для того, чтобы я мог рассказать моим коллегам на корабле, что мною сделано. Он согласился и сдержал свое слово.
Телепатия была единственным, чему я должен был научить Эстравена — это было то единственное достижение моей цивилизации, единственная моя реальность чужака, в которой он был глубоко заинтересован. Я мог бесконечно рассказывать и описывать ему суть телепатии, но это было единственное, что мне оставалось делать. В сущности же, это было самым главным, что мы должны принести на Зиму. Но я не могу утверждать, что желание услышать благодарность было единственным мотивом, заставлявшим меня нарушать Закон о Культурном Эмбарго. Я не платил ему мои долги. Такие долги остаются неоплаченными. Мы с Эстравеном просто подошли к той точке, в которой мы уже поделили все, что было у нас и что имело смысл делить.
Я предполагал, что в таком случае наши сексуальные отношения смогут стать более терпимыми, насколько они могут быть между бисексуальным геттенианином и однополым земным существом из пределов Хайна, хотя в любом случае они должны быть совершенно стерильными. Оставалось только в этом убедиться. Эстравен и я ничего не доказывали друг другу, исключая случаи, когда мы касались наиболее щекотливых моментов. Ближе всего мы ощутили приближение кризиса, к которому нас подталкивала сексуальность, еще в начале путешествия, на вторую ночь нашего пребывания на Льду. Мы провели весь день, борясь и отступая перед препятствиями, с которыми сталкивались в районе трещин Огненных Холмов. Вечером мы были вымотаны до предела, но все же чувствовали подъем духа, потому что вскоре перед нами должна была открыться прямая дорога. Но после обеда Эстравен помрачнел и прервал мои попытки вступить в разговор. Откровенно удивившись, я обратился к нему.
— Харт, если я снова сказал что-то не то, скажите мне, пожалуйста, в чем дело.
Он промолчал.
— Я чем-то, очевидно, обидел ваш шифтгреттор. Прошу прощения, я сделал это ненароком. В сущности, я ведь никогда толком не понимал значения этого слова.
— Шифтгреттор? Оно происходит от старого слова, которое обозначает тень.
Оба мы помолчали немного, а потом он прямо взглянул на меня, и в глазах его были мягкость и нежность. Лицо его в красноватом свете печки было нежным, беззащитным и далеким, как лицо женщины, которая, задумавшись, молча глядит на вас, погруженная в свои мысли.
И снова я отчетливо увидел в нем то, чего всегда боялся увидеть, и от всей души хотел бы не видеть в нем: он был женщиной в той же мере, как и мужчиной. Всякая необходимость разобраться в источнике этого чувства исчезла вместе с появлением страха, оставив лишь одно: его надо принимать таким, какой он есть. До этого я отрицал, отбрасывал необходимость признавать реальность такого подхода. Он был совершенно прав, что он, единственное существо на Геттене, которое доверяло мне, было единственным, кому я не доверял. Потому что он был единственным, который полностью воспринимал меня как человека, он был единственным, который любил меня и был полностью предан мне и который тем самым полностью открывался передо мной, ничего не тая от меня. А я не хотел принимать его дар, его открытость. Я был испуган этой возможностью. Я не хотел дарить ни доверия, ни дружбы мужчине, который был женщиной, и женщине, которая была мужчиной.
Прямо и откровенно он объяснил мне, что входит в кеммер и будет стараться избегать меня постольку, поскольку один из нас может избегать другого.
— Я не должен притрагиваться к вам, — сказал он, отводя глаза в сторону, и я видел, в каком он был напряжении.
— Понимаю, — сказал я. — Я полностью согласен.
И при этих словах мне показалось, и думаю, ему тоже, что мы поняли и признали существование между нами сексуального напряжения, которое не смягчалось, но рядом с ним внезапно появилось сильное дружеское тяготение друг к другу, та дружба, которая так была нужна нам обоим, изгнанникам и скитальцам, и в которой мы уже успели убедиться во время наших тяжелейших дней и ночей. И тяга эта была так сильна, что позднее, при зрелом размышлении, ее можно было бы назвать даже любовью. Но она шла не столько от нашего сходства и подобия, сколько от разницы, той разницы, которая является источником любви: и она была мостом, единственным мостом над тем, что разъединяло нас. Встреча на любой иной почве, встреча, в подоплеке которой лежал бы сексуальный оттенок, еще раз дала бы нам понять, как мы далеки друг от друга. Нежность, которую мы испытывали друг к другу, могла проявиться одним-единственным путем. И мы оставили все, как есть. Не знаю, были ли мы правы.
Мы поговорили этой ночью еще немного, и я почувствовал себя в очень затруднительном положении, когда он спросил меня, что представляют собой женщины. Последующие пару дней мы испытывали известное напряжение и были очень внимательны друг к другу. Полная всепоглощающая любовь двух людей включает в себя и силы и возможности причинить друг другу боль. И до этой ночи мне никогда не приходило в голову, что я могу причинить какое-то страдание Эстравену.
Теперь все барьеры исчезли, и ограничения, как я говорил, в наших разговорах и взаимопонимании стали давить меня. И очень скоро, через два-три дня, когда мы кончили ужин — подслащенная каша из каддика, чтобы отпраздновать сегодняшний переход в двадцать пять миль — я сказал моему спутнику:
— Тем вечером, прошлой весной, когда мы сидели в Красном Угловом Здании, вы сказали, что хотели бы научиться мысленному общению.