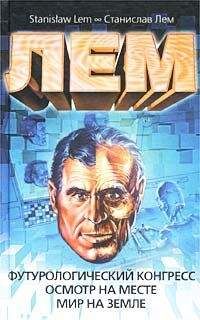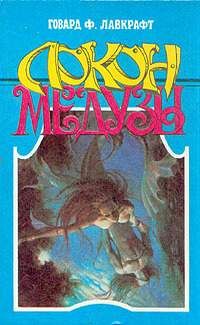Станислав Лем - Осмотр на месте
— Это отчего же и почему?
— Из-за благоденствия…
— А разве оно обязательное?
Он прямо-таки зашелся ядовитым саркастическим смехом; этот смех незаметно перешел в рыдание. Прочие похитители тоже украдкой утирали глаза.
— Нет, отнюдь, — простонал он, — но хоть бы даже райский хлебушек комом в горле застрял, по доброй воле никто его не отдаст. Абсолютное блаженство развращает абсолютно! От народа спуску не жди! Можешь рассчитывать на него, когда его нужда докучает, но не тогда, когда его роскошь насилует. Не хочет он, чтобы было иначе, ведь иначе — значит уже только хуже, а не лучше! Конечно, был некогда в моде аскетизм — похлебка из кореньев лесных, избушка под соломенной крышей, курдль в хлеву, соха да сермяга, богач босиком, но все это синтетическое, коренья трюфельные, курдль на колесах, из нейлона солома, соха-самоходка на транзисторах, липовый это был аскетизм, и приелся он быстро. Ах, чужестранец, знал бы ты, как народ мучается! При одном только виде выборокибера, расхваливающего очередную усладу, граждан сотрясает буриданова дрожь, и многие разбивают или разбирают его, да что толку — он тут же саморемонтируется. Страшнее всего то, что нас, радетелей за народное благо, народ ненавидит, не желая понять, что завис на крючке погибели. Поэтому мы, к сожалению, должны прикончить тебя, почтеннейший чужестранец…
Возможно, это был их представитель по делам печати — не знаю, во всяком случае, он не удовлетворил их этим коммюнике. Ты забыл добавить, наперебой кричали они, что великое дело требует великой жертвы! Ты недостаточно заострил историческое значение того, что сейчас наступит! Что же именно? Шкурничество. В том смысле, что с меня снимут шкуру. Перспектива Тихобития (повторяю за ангелом, который с ходу переводил), собственно, не заставила меня испугаться сильнее, конкретную угрозу я предпочитаю смертоносным намекам, щекочущим позвоночник; мышление мое обострилось, я весь собрался, прикидывая возможности обороны, ибо я не намерен был дешево продать свою шкуру; одновременно я вдался в дискуссию с ними, упирая на то, что возвышенная идея несовместима с убийством, но это был диалог с глухими. В их идеалистически вытаращенных глазах горел такой фанатизм, что легче было бы рождественскому индюку убедить кухарок отказаться от своих кровожадных намерений, чем мне разубедить этих энтузиастов, которые, убив меня, хотели отвоевать неведомо что, неведомо как; я потянулся за перочинным ножом в брючный карман, но тут меня ждал новый сюрприз: то, что я считал эпилогом, оказалось всего лишь прологом настоящего разбирательства. Они по очереди требовали слова, председатель — теолог или антипастырь — составил список ораторов, затем была принята повестка дня и утвержден состав комиссии по рассмотрению предложений; вслушиваясь в их выступления, я наконец уяснил существо дела. Само по себе убийство было делом решенным — но не его толкование. Теперь обсуждалось, с каких позиций свершится то, что должно было свершиться. После бурных дебатов на середину вышел Портретист-Экстремист, поклонился и заголосил:
— Достопочтеннейший Пришелец, да погибнешь ты от моей руки! Почитаю долгом своим объяснить, почему я бросил любимую палитру ради тебя. Крови ли я хотел? Никогда! Так чего же я жаждал? Творить. Живописать! На грубый холст накладывать краски, исповедуясь в собственных снах, и чтобы кто-нибудь, кто угодно, хоть раз взглянул бы и вскрикнул от восхищения. И это все, клянусь честью. Но взгляни: как тут писать картины, если достаточно захотеть — и стена, благодаря своему орнаменту на интегральных схемах и читчику желаний, сама, живо и ловко, фресками себя покрывает?!! Поэтому, когда я ребенком выказывал охоту к живописи, меня ставили носом к стене. Что было делать? Я поручал это ей, но жалость жгла сердце. Впрочем, вскоре стенам пришел конец, возобладало новое течение — картиноречие. Течение было не хуже других, но что же? Не успел я в это дело втянуться, как оно всего за квартал самокомпьютеризировалось. А потом, в каких-нибудь шесть недель, народился у нас дублизм. Ну если картина может сама с собой вести разговоры, то может и сама себя написать, так ведь? Но я был человек упорный, я ждал, и вот возник экскрементизм. Столовая ложка растительного масла на одно полотно или четыре — на шесть. Если вдохновения нет — касторка. Как устоять перед Тиранией Искусства? Вот мы и травились цинковыми белилами и слоновой чернью, все как один, однако это быстро вышло из моды. И пришел суицидизм, называемый также самизмом. Сперва было брюхачество — художник шел и выставлял свой живот, лакированный и с разными штуковинами, которые держались на пластыре или вживлялись, но и это приелось публике; поэтому на вернисаже стали оставлять голую бетонную стену, а художник, обильно полив себя фиксатуаром, брал хороший разбег и головой в стену, чтобы так уже и остаться — натюрмортом в суицидальном стиле. Хотя удавалось это только один раз, нашлись мученики искусства! У меня, однако, череп был слишком крепкий, впрочем, бетон вскоре размяк, известное дело, — шустры о нас пекутся… А когда пошел мне двадцать восьмой годочек, был уже в моде генизм. Берем, значит, миксер и смешиваем разные гены, от гуся до гиены, чтобы получился monstre pittoresque[56], но и это прошло, скотинокартины вышли из моды. После был деструкционизм, или угробианство коллег, но и оно уступило место новому течению, креационизму, иначе говоря, сотворенчеству. Это вам не какое-нибудь ковыряние в глине и гипсе, но творения, достойные своей эпохи, — спутники в виде золотых алтарей с аквариумами, в которых каждой акуле самочист зубы чистит, или полицерковная безгравитационная урбанистика, когда орбитальные храмы вытягивают свои телескопические башни и колокольни в пустоте, как омары; но все это, увы, без наития, без веры, и совершенно приватное, единоличное; каждое такое творение надо было немедленно залить черной стекловидной массой, чтобы уберечь от чужого глаза, а еще лучше — пустить в распыл. Но и это плохо крепило расслабленную волю к творчеству…
— Кситя, не мелочись! — надсаживались они. — Лепи сразу в девятку! Ну же! Смело, без деталей, вовсю! Мы с тобой! Держись, кореш, не лопайся прежде времени!
— Я и не лопаюсь, — уже рычал он, — ars pro arte[57], ланца-ца, ты сыграешь мертвеца, богоид, ату его, землеца-подлеца, я уж его разукрашу!!!
— Шкуру драть, шкуру драть! — загремели остальные, вскакивая; верно, это был их гимн; они побежали за занавеску, должно быть, за инструментами, я тоже вскочил, и цепь зазвенела.
— Вы что, спятили! Стой! — закричал я, заметив краешком глаза, что ангел перевел приказание, отданное ему художником, но не двинулся с места. Он стоял, возвышаясь над нами на две головы, мерно шелестя крыльями. Несмотря на такую усиленную вентиляцию, мне стало душно.