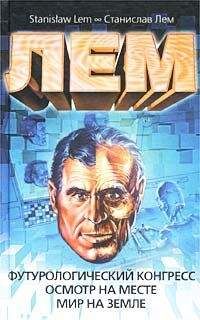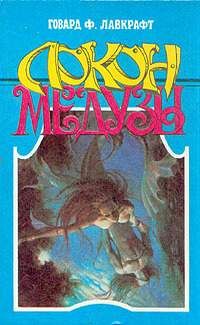Станислав Лем - Осмотр на месте
В конце концов, это мог быть какой-то местный обычай, но я не хотел. Сам не знаю, что меня остановило. Пожалуй, то, что они не говорили со мной, а лишь выражали жестами самое униженное почтение; у всех у них были переводилки — в петлице, как у меня, и все же они молчали. Я застыл посреди комнаты. Они вежливо подталкивали меня с жестикуляцией глухих или придурковатых, но я уже уперся, начал от них отбиваться, поначалу не без церемоний, кланяясь: все же такой дворец, надо соблюдать видимость, слишком резкий был переход — почему именно здесь, в чем тут дело, какого черта? — они толкали меня уже почти по-хамски, тем сильнее, чем сильнее я сопротивлялся; не знаю когда, в какой момент почести обернулись побоями. Собственно, не они меня били, а я их тузил; в пухлую морду толстого — погоди у меня! — головой в живот — пусти, хам! да отстаньте же, погодите, тут какое-то недоразумение, я чужеземец, прибыл в качестве дипломата — переводилка пискливо повторяла каждое мое слово, они не могли не слышать и все же по-прежнему подталкивали меня к стене — вот как? что ж, поговорим по-другому, врежем по поющей одежде, а пинка не хочешь? — переводилка хрустнула и умолкла, раздавленная, они навалились массой; все-таки я сопротивлялся не так, как мог бы: я не знал, насколько велика ставка. Понятия не имею, как и когда, но ошейник защелкнулся у меня на шее, и теперь они хотели лишь вывернуться, отскочить, уйти, ведь я уже был на цепи; но я зажал под левым локтем голову толстяка и охаживал его за всех остальных, те тащили его за ноги, он ревел словно буйвол, и в конце концов я его отпустил, уж больно все это было по-дурацки. Они отбежали от меня подальше, как от злой собаки, тяжело дыша, в разорванной одежде, которая немилосердно фальшивила, — я таки изрядно им наподдал; но смотрели они на меня с радостью — совершенно иной, нежели раньше, на космодроме; это была радость обладания мною. Я выражаюсь достаточно ясно? Они насыщались моим видом, словно я был крупным хищником, угодившим в капкан. Это чертовски мне не понравилось. Наглядевшись на меня вволю, они гуськом ушли.
Я остался один, на цепи, и еще раз оглядел комнату. Я с удовольствием сел бы, ноги еще дрожали от напряжения, ведь одному из них я надорвал ухо, а толстому попортил нос; но сесть просто так, у стены, с ошейником на шее, я не мог — во всяком случае, пока. Ходить мне тоже не хотелось, это было бы чересчур по-собачьи. Перед глазами у меня все еще стояло золотое великолепие дворца, несколько амурчиков с подносиками слетелись под потолком, но потчевать меня снедью уже не пробовали. Напрасно я пытался внушить себе, что это какое-то грандиозное недоразумение. Всего подозрительнее было даже не то, что меня посадили на цепь, но радость, с какой они смотрели на меня перед уходом. Я размышлял, как вести себя дальше, чтобы не утратить достоинства; в таком положении в голову приходят совершенно идиотские мысли, к примеру, заслонить ошейник воротничком рубашки, а цепь прикрыть телом. Однако глаза сами устремились к подобию мастерской в углу: там лежали какие-то ножи и щипцы, а выше, под потолком, проходил прут, по которому передвигалась штора на колесиках, но теперь она была раздвинута. Ножи что-то напоминали мне — немного похожи на пилы, но без зубьев, острие полукружьем, с ручками — ну да, в точности, как кожевенные ножи. Для обработки кожи. Но что же общего они могли иметь со мной? Да просто ничего общего! Я повторил это себе раз десять, но вовсе не убедил себя. Позвать на помощь я стыдился. В перочинном ноже у меня был напильник, но не на такую цепь — эта выдержала бы не то что сторожевого пса, а шестерную упряжку.
Примерно через час радужные двери вдруг растворились. Вошли мои похитители с каким-то новым люзанцем, высоким и очень плотным. Он носил розовые очки, держался величественно, хотя задыхался так, словно опаздывал на поезд. Он низко поклонился мне от самого порога и включил пение своей одежды. А может, шляпы. Остальные, показывая на меня, галдели наперебой все с тем же радостным удовлетворением. Неужели я был заложником? Может быть, политическим? Или речь шла о выкупе?
Разглядывание заняло несколько секунд, но величественный люзанец заметил незанавешенную мастерскую и начал орать на сообщников, а одному даже пригрозил кулаком. Они наперегонки бросились задвигать занавеску. Кретины — горчица после обеда; но то, что они заслонили эту лавку с ножами, окончательно заморозило мне кровь. Высокий скомандовал, двое выбежали из комнаты и почти сразу вернулись со статуей, из тех, что они называли богоидами. Выглядел этот богоид в точности как наш земной, церковный ангел, только что двигался. Принесли кресла, ангел пододвинул одно из них мне, встал рядом и принялся тараторить неслыханно быстро; я понял, что это переводчик; вдобавок он обмахивал меня крыльями, что тоже было нелишним: после всех этих разговоров и покушений на мою жизнь я буквально обливался потом. Они сели кружком, но не слишком близко — за пределами досягаемости цепи, — ну, и началось. Что именно, трудно сказать. Сперва они представились мне, но не все. Те, что посвирепее, уселись между креслами на корточках и воодушевляли ораторов воем, визгом, взрывами сатанинского смеха, а выступающие поочередно занимали свободное место прямо напротив меня и давали волю своему чувству ненависти — не столько ко мне, сколько ко всему свету.
Когда-то меня уже похищали ради выкупа, об идейных похитителях мне тоже немало довелось слышать, и эти изображали из себя как раз идейных; но что-то тут было не так. Не знаю, черт подери, как это выразить. Не то чтобы я сомневался в искренности их недобрых намерений. Я узнал, что величественный, в розовых очках — председатель или, точнее, антипредседатель их Союза писателей, что один из них занимается антисвященничеством, другие были Пантожниками (панантихудожниками), на ковре сидел на корточках неонист (он не светился неоном — просто так называли неонигилистов), рядом с ним двое социократов (укокошников), а возле ангела — один апокалиптик (эсхатист), двое противленцев, с чем-то там борющихся, один кромешник и несколько экстремистов помельче, выполнявших функции клакеров. Угрожая мне, они переходили от ярости к энтузиазму, их чувства казались искренними, но… словно бы не удовлетворяли их самих. Чем-то они напоминали переволновавшихся перед спектаклем актеров, чем-то — индейцев, танцующих вокруг пыточного столба, но индейцев, которые не очень-то верят в своего Манитоу и Страну Вечной Охоты и танцуют, как танцевали их деды, однако с какой-то тревогой… не то чтобы их что-то сдерживало, никакой жалости, отнюдь, скорее уж крупица сомнения, заглушаемого хоровым воем… или вот еще плакальщицы на похоронах — не те, кому платят за причитания и посыпание главы пеплом, но родственники, которые силятся подогреть температуру отчаяния выше, чем на это способны… и потому им приходится вырывать на голове больше волос, чем нужно, и так рыдать, чтобы было слышно за кладбищем. Словом, что-то они чересчур старались. Лица у них были человеческие, однако не маски, хотя было видно, что это не обычные их лица. Тогда я еще не знал, как они это делают, и, по правде сказать, это не слишком меня заботило. Ангел, стоявший рядом, бил космические рекорды скорости перевода. Он переводил даже хоровой визг: «Свобода и Благоденствие! А чтоб вас всех! В ежовые рукавицы паскудников, кибродяг, наукиных детей, состряпанных в колыбели-колбе, чмавкающих в повсюдной кремоватости, брюзглых дряблых блевунчиков-губохлюпов». Таким вот манером они себя распаляли, а потом один из них растолкал остальных и, подпрыгивая на месте по-петушиному и размахивая руками, словно хотел вознестись под потолок, к амурчикам с подносами, заревел: