Джек Лондон - Странник по звездам
– А огонь! – вскричал я помолчав. – Великий благодетельный огонь! Ну что это за небо, где человек не может понять всю прелесть огня, который ревет в очаге, пока за крепкими стенами воет ветер и бушует снежная вьюга!
– Какой вы простодушный народ, – не сдавалась она. – Среди снежных сугробов вы строите себе хижину, разводите в очаге огонь и называете это небом. В нашей обители блаженства нам нет нужды спасаться от снега и ветра.
– Не так, – возразил я. – Мы строим хижину и разводим огонь для того, чтобы было откуда выйти навстречу стуже и ветру и где укрыться от стужи и ветра… Мужчина создан для того, чтобы бороться со стужей и ветром. А хижину и огонь он добывает себе в борьбе. Я-то знаю… Было время, когда я в течение трех лет не имел крыши над головой и ни разу не погрел рук у костра. Мне было шестнадцать лет, я был мужчиной, когда впервые надел тканую одежду. Я был рожден в разгар бури, и пеленками мне служила волчья шкура. Теперь погляди на меня, и ты поймешь, какие мужчины населяют Валгаллу.
И она поглядела мне в глаза, и в ее взгляде был призыв, и она воскликнула:
– Такие, как ты, золотоволосые великаны! – А затем задумчиво добавила: – Пожалуй, это даже грустно, что на моем небе не будет таких мужчин.
– Мир прекрасен, – сказал я ей в утешение. – Он широк и сотворен по разумному плану. В нем хватит места для многих небес. Мне кажется, каждому уготовано то блаженство, к которому он стремится… Там, за могилой, нас, конечно, ожидает прекрасная страна. Я, думается мне, покину наши пиршественные залы, совершу набег на твою страну цветов и солнца и похищу тебя, как была похищена моя мать.
Тут я умолк и взглянул ей в лицо, и она встретила мой взгляд и не опустила глаз. Огонь пробежал у меня по жилам. Клянусь Одином, это была настоящая женщина!
Не знаю, что было бы дальше, если бы не Пилат. Закончив свою беседу с Амбивием, он уже несколько минут сидел, усмехаясь про себя, и тут нарушил воцарившееся молчание.
– Раввин из Тевтобурга! – насмешливо воскликнул он. – Еще один проповедник явился в Иерусалим и принес еще одно учение. Теперь начнутся новые религиозные распри и бунты и пророков будут снова побивать камнями! Да смилуются над нами боги – здесь все обезумели. Ну, Лодброг, от тебя я этого не ожидал. Да ты ли это с пеной у рта споришь о том, что станется с тобой после смерти, словно какой-нибудь бесноватый отшельник? Человеку дана только одна жизнь, Лодброг. Это упрощает дело. Да, упрощает дело.
– Ну же, ну, Мириам, продолжай! – воскликнула жена Пилата.
Во время нашего спора она сидела, словно зачарованная, крепко сцепив пальцы, и у меня промелькнула мысль, что она уже заразилась религиозным безумием, охватившим Иерусалим. Во всяком случае, как мне пришлось убедиться впоследствии, она проявляла болезненный интерес к этим вопросам. Она была так худа, словно долго болела лихорадкой. Казалось, ее руки, если посмотреть на них против света, будут совершенно прозрачны. Она была хорошая женщина, только чрезмерно нервная и суеверная и постоянно пугалась всяческих предзнаменований и дурных примет. У нее бывали видения, и она порой слышала неземные голоса. Я терпеть не могу такого слабодушия, но она все-таки была хорошей женщиной, и сердце у нее было доброе.
Я прибыл туда с поручением от Тиберия и, к несчастью, почти не виделся с Мириам. Мне пришлось отправиться ко двору Антипы, а когда я возвратился, то не застал Мириам: она уехала в Батанею ко двору Филиппа, который был женат на ее сестре. Из Иерусалима я отправился в Батанею, хотя мне не было нужды встречаться с Филиппом: при всем своем безволии он был верен Риму. Но я искал встречи только с Мириам.
После этого я побывал в Идумее. Затем отправился в Сирию по повелению Сульпиция Квириния: легат хотел получить сведения о положении в Иерусалиме из первых рук. Так, много разъезжая по стране, я скоро сам убедился, что евреи прямо-таки помешаны на религии. Это была их отличительная черта. Они не желали предоставить решение этих вопросов своим проповедникам, каждый из них стремился сам стать проповедником и проповедовал повсюду, где только находил себе слушателей. Впрочем, слушателей хватало с избытком.
Люди бросали свои занятия и бродили по стране, как нищие, затевая споры с раввинами и книжниками в синагогах и на ступенях храмов. В Галилее, области, пользовавшейся дурной славой (жителей ее считают придурковатыми), я впервые снова услышал о человеке по имени Иисус. По-видимому, он был сначала плотником, потом стал рыбаком, а когда начал бродяжить, его товарищи – рыбаки – бросили свои рыбачьи сети и последовали за ним. Кое-кто считал его пророком, но большинство – безумцем. Мой бездельник-конюх, который утверждал, что в знании Талмуда ему нет равных, от души презирал Иисуса, называл его царем нищих, а его учение – эбионизмом. Смысл этого учения, как объяснил он мне, заключался в том, что только беднякам уготовано царствие небесное, а богатые и могущественные попадут в какое-то огненное озеро.
Я заметил, что в этой стране все называли друг друга безумцами; по-видимому, таков был обычай. Впрочем, на мой взгляд, они все без исключения были безумцами. И каждый по-своему. Кто изгонял бесов и лечил недуги наложением рук, кто без всякого вреда для себя пил смертельный яд и играл с ядовитыми змеями, – так, во всяком случае, утверждали сами чудотворцы. Кто удалялся в пустыню и морил там себя голодом. А потом возвращался и начинал проповедовать какое-нибудь новое учение и собирал вокруг себя толпы. Так возникали новые секты, в которых немедленно начинались споры из-за тонкостей доктрины, что вело к распадению секты на две, а то и больше.
– Клянусь Одином, – сказал я Пилату, – сюда бы немножко нашего северного снега и мороза! Это слегка охладило бы им мозги. Здешний климат слишком мягок. Вместо того чтобы строить себе теплые жилища и добывать пищу охотой, они беспрерывно создают новые учения.
– И изменяют природу Бога, – угрюмо подхватил Пилат. – Будь они прокляты, все эти их учения!
– Вот именно, – согласился я. – Если только мне удастся выбраться из этой сумасшедшей страны, сохранив рассудок, я буду рассекать надвое всякого, кто только посмеет заикнуться мне о том, что ждет меня за гробом.
Нигде больше нельзя было отыскать таких смутьянов. Решительно все на свете они сводили к вопросам благочестия или богохульства. Мастера вести споры о всяких тонкостях веры, они были не в силах постичь римскую идею государства. Политика для них становилась религией, а религия – политикой. В результате у каждого прокуратора хватало забот и хлопот. Римские орлы, римские статуи, даже щиты Пилата – все считалось преднамеренным оскорблением их религиозного чувства. Имущественная перепись, проведенная римлянами, вызвала большое негодование. Однако без нее нельзя было установить налоги. И тут все начиналось сначала. Налоги, взимаемые государством, – преступление против их закона и их Бога. О, этот закон! Он не имел ничего общего с римскими законами. Это был их собственный закон, дарованный им Богом. Находились фанатики, убивавшие всякого, кто нарушал этот закон. А если бы прокуратор решил покарать такого фанатика, застигнутого на месте преступления, тотчас бы вспыхнул бунт, а может быть, и восстание.
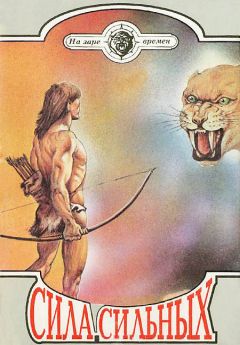

![Иван Корнилов - В бесконечном ожидании [Повести. Рассказы]](/uploads/posts/books/134851/134851.jpg)
