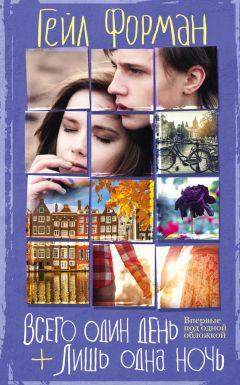Владимир Краковский - ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Все знакомые только руками разводили: «Ну и везучий этот Койкин. Мне бы Сидорову удачливость!»
Его Сидором звали. Он был бездарным писателем, а ему все завидовали. Потому что он умел находить двадцать пять рублей, завернутые в трешку.
101
Внимание, важный момент наступает: Верещагин впервые приближается к цеху, где он теперь начальником. Но говорит директору: «Входи первый». «Нет, ты, – возражает директор. – Ты начальник, ты и первый» Перед ними дверь, обитая тусклой жестью. Они препираются перед нею, как школьники. «Может, тебе всю жизнь здесь работать, – говорит директор. – Так чтоб у тебя было воспоминание: я, мол, зашел сюда первый».
«Ну да, – отвечает Верещагин. – Будто раньше меня сюда никто не входил». – «А ты забудь все, что было раньше», – советует директор. Верещагин вдруг говорит: «Я буду называть тебя на «вы». Директор соглашается: «На людях. Наедине можешь по-прежнему говорить «ты».
Тут Верещагин набирается мужества и толчком распахивает дверь. Он видит небольшой залец с полом из белого кафеля и с двумя девушками у дальней стены. Девушки бросаются ему навстречу. То есть, скорее всего, не ему, а вошедшему следом директору, но Верещагин воспринимает дело так, будто это ему навстречу. Они топочут по белому кафелю громко, как лошади. Все ближе и ближе – топот нарастает, похоже, эскадрон конников мчится в атаку. «Здравствуйте!» – говорят девушки, и наступает жуткая тишина: они остановились. «Знакомьтесь, – говорит директор. От его начальственного голоса тишина не разрушается, наоборот, становится еще четче, будто вытягивается по стойке «смирно». – Знакомьтесь, – говорит директор. – Это ваш новый начальник – товарищ Верещагин, – тишина просто мертвая, Верещагин боится вздохнуть – в таком беззвучии его вздох может прозвучать как отдаленное землетрясение, как грохот камнепада с крутой горы. – Прошу любить и жаловать», – говорит директор.
И это все. Все, что требуется по форме. Ни прибавить, ни убавить. Сказано как надо, будь здоров.
Теперь очередь за девушками. «Альвина», – представляется одна. Верещагин замечает: на ней голубой парик. И еще видит: лет ей немало, хотя издали казалось – подросток. «Ия», – говорит другая… О, у этой девушки очень странное лицо: на огромных, с ладонь, глазах тяжелые, как жалюзи, веки. А нос, нос! Верещагин не может оторвать взгляда от ее носа: гора, а не нос, но высечен с изяществом, которое сделало бы честь и гениальнейшему из скульпторов-монументалистов… А рот, рот! Верещагин не может оторвать взгляд и от ее рта: ярко-красное полушарие, верхушка тропического цветка. «Ничего, со временем привыкну, – обещает себе Верещагин. – Она не для нас, – думает он об этой девушке. – В нее мог бы влюбиться какой-нибудь инопланетянин».
Директор доволен процедурой знакомства. Он подбадривающе хлопает Верещагина по плечу – два удара сильных, третий – легкий, для счета, – и ведет показывать цех.
«Здесь мы выращиваем «а тридцать три», здесь «эн сорок», – говорит он. Семь пузатых установок, о которых директор говорит: «печи» и по каждой хлопает три раза, далась ему эта традиция!
«Жэ сто восемь», «и пятьдесят семь», «дэ двадцать девять»… Китайская грамота для Верещагина все эти названия…
В конце зальца – малозаметная дверь. Директор толкает ее ладонью. «Твой кабинет», – говорит он и улыбается. Еще бы! Туалетные кабинеты и те бывают просторнее. Крошечный кабинетик, курам на смех. Впрочем, стол, стул, ободранный диванчик, этажерка с папками, да директор с Верещагиным – в него влезли. Да еще сейф – это самое заметное из всего, что есть в кабинетике, такое редко где увидишь – сверкающий монумент из наитвердейшего металла, в котором хранятся искусственные сокровища, фальшивые драгоценности. Фальшивые-то они фальшивые, но – лучше естественных: торжество человеческого разума, за вынос крупиночки – тюрьма.
А на квадратной дверце картинка приклеена: мальчик и девочка едут на велосипеде, мальчик чуть впереди, у него остекленевший взгляд. «Это твой предшественник повесил, он любил живопись, – объясняет директор. – Можешь выкинуть, если не нравится». – «Лучше подарите мне», – неожиданно звучит голос за спиной, Верещагин оборачивается: девушки, оказывается, сто у входа в кабинетик, – интересно, как это им удалось подойти неслышно, ведь здесь каждый шаг как выстрел, значит, могут, когда им надо, могут и неслышно, вот они какие… «Как тебе не стыдно! – говорит Альвина. – Может, никто и не собирается снимать картинку, а ты уже просишь». – «Товарищу Верещагину она не понравится», – говорит Ия так уверенно и спокойно, будто все знает наперед. «Запоминай и учитывай, – говорит директор. – Это твои кадры». – «Конечно, не понравится», – соглашается Верещагин. И срывает картинку с сейфа. Но тут же замирает в испуге. Директор, смущенно хмыкнув, говорит: «Сволочи!» А девушки отворачиваются. На сверкающей дверце – буквы, процарапанные глубоко и четко: неприличное слово.
«Да, – говорит директор. – Я ведь знал, да забыл. Забыл, понимаешь, столько дел, что многое вываливается из памяти… По местам! По рабочим местам! – кричит он девушкам – строго, но не обидно, потому что не как начальник кричит, а как отец, из педагогических соображений: чтоб эти юные создания поменьше глазели на гадкую надпись. Девушки уходят – цокая, будто скачут. – Придется тебе приклеить картинку обратно, – говорит директор Верещагину. – Пока эту. Потом приклеишь другую, по своему вкусу, но чтоб всегда что-нибудь было приклеено, это место на сейфе нельзя оставлять без живописи».
Конечно, он прав. Без живописи такие места оставлять нельзя.
102
Лет пять тому назад эта история случилась. Приходит как-то бывший начальник опытного цеха в свой кабинет и видит на двери замечательного сейфа неприличное слово, самое короткое из всех.
Он, конечно, возмущен, но не хочет поднимать шума и пытается заштриховать неприличное слово, царапая по нему различными металлическими предметами, однако из этой затеи ничего не выходит: сейф наитвердейший, он из нержавейки, а может, даже из титана, неприличное слово блистает во всей своей лаконичной красе, оно выгравировано глубокой гравировкой, не иначе как искусственным алмазом потрудился негодяй, – царапанье металлическими предметами не оставляет никаких следов. Бывший начальник цеха даже сломал на этом деле свой любимый перочинный ножичек, – он коллекционировал перочинные ножички и всегда носил с собой один-два из коллекции. Оба, кажется, и сломал.
Раздраженный неудачей и вообще этим делом, он идет к директору и поднимает скандал, говоря: «Безобразие! Кто-то желает подорвать мой авторитет!»; он правильно расценивает случившееся – действительно, такие вещи делаются неспроста, а обязательно с целью подорвать авторитет, опорочить человека, превратить его в объект для насмешек. «Успокойся, – отвечает директор, – мы найдем виновного и примерно его накажем».