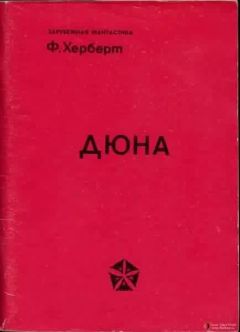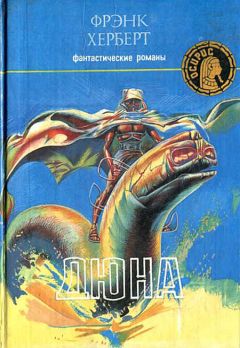Фрэнк Херберт - Дюна
— Пол, не можешь ты думать, что…
— В наших руках все улики, — сказал он. — Мы знаем, что Союз добивается запрещения продажи спутников определения погоды. Мы знаем, что…
Джессика кивнула, не способная говорить.
— Однажды, — сказал Пол, — мой отец попросил меня передать тебе кое-что, если с ним что-нибудь случится. Он боялся, что ты можешь поверить в то, что он тебе не доверял.
Это бесполезное подозрение, подумала она.
— Он хотел, чтобы ты знала, что он никогда не подозревал тебя. Он хотел, чтобы ты знала, что он всегда полностью тебе доверял, всегда любил и заботился о тебе. Он сказал, что скорее усомнился бы в себе, и что сожалеет лишь об одном, о том, что не сделал тебя Герцогиней.
Стряхивая с себя струившиеся слезы, Джессика подумала: „Какая глупая трата воды тела!“ Лето, мой Лето, думала она. Как ужасно мы поступаем с теми, кого любим?
Рыдания сотрясли ее тело. А Пол, слыша, как скорбит его мать, чувствовал внутри себя пустоту. Почему? Почему? — думал он. Почему нет скорби во мне? Он чувствовал в себе неспособность к скорби, как и к порыву чувств.
Время получать и время терять, думала Джессика, цитируя про себя слова из Библии: „Время брать и время отбрасывать, время любить и время ненавидеть, время войны и время мира“.
Пол все дальше удалялся мыслями по пути холодной до дрожи оценки. Он видел, как перед ним на этой враждебной планете расстилаются дороги. Не прибегнув даже к безопасной призме мечтания, он сосредоточился на своей способности предвидения, видя не только расчет вероятного будущего, но и нечто большее, край тайны как если разум опустился в неподвластные времена.
Неожиданно разум Пола взлетел еще на одну ступень знания. Он почувствовал себя утвердившимся на этом новом уровне и вглядывающимся с этой высоты в даль. Как будто он находился внутри шара, во всех направлениях от которого расходились дороги… и все же подобное сравнение лишь приблизительно передавало испытываемые им ощущения.
Он вспомнил, как видел однажды развевающийся на ветру шарф, и теперь будущее определялось им также, как нечто зыбкое и непостоянное, как этот трепещущийся на ветру шарф.
Он увидел людей. Он ощутил жару и холод бесчисленных возможностей.
Он знал имена и места, ему было хорошо знакомо бесчисленное количество чувств, он читал результаты исследований бескрайного количества темных пятен. Это было время испытаний и исследований, но не время создания формы. Перед ним расстилался спектр возможностей, соединяющий самое отдаленное прошлое с самым отдаленным будущим. Он видел в бесчисленных вариантах собственную смерть. Он видел новые планеты, новые культуры. Люди. Люди.
Он видел их такими огромными толпами, что их невозможно было сосчитать, и все же он отмечал каждого. Даже людей Союза.
Но мысль о жизни вне его жизни, в поисках разума впереди среди возможного будущего, которая ведет мчащиеся в пространства корабли, ужаснула его. Хотя это был путь. И на встрече с возможным будущим, где были и люди Союза, он узнал его собственную отчужденность.
У меня есть другой вид зрения. Я вижу другую землю: доступные пути. Это знание порождало и уверенность, и тревогу — столько мест на этой другой земле уклонилось от его зрения или избегало его.
Так быстро, как только это было возможно, способность чувствовать оставила его, и он постиг весь опыт, какой способен дать живое пространство.
Да, его собственное, его личное знание было перевернуто, освещено ужасным путем. Он огляделся.
Снаружи все еще была ночь. Все еще слышались рыдания ею матери. Он все еще ощущал собственное отсутствие скорби… Это пустынное место отделялось в его сознании, которое продолжало свой уверенный путь вперед, имея данные оценки подсчетов и складывая из них ответы подобным ментату путем.
И теперь он увидел, что обладая богатством окончательных данных, он может понять все, что осознал разумом. Но это создало внутри него пустоту, выносить которую было нелегко. Он чувствовал, что нечто должно разрушиться. Это было похоже на то, гак если бы внутри него тикал часовой механизм бомбы. Он продолжал свое дело независимо от того, желает он или нет. От этого немного менялось то, что его окружало: влажность, температура, полет насекомого над крышей их тента, торжественное приближение рассвета на освещенной звездами небесной дороге, видеть которое он мог через прозрачный край стилсьюта.
Пустота была невыносимой. То, что ему было известно, как работал механизм в свое собственное прошлое и увидеть начало процесса — учение, совершенствование талантов, преобладающее влияние извращенных дисциплин, даже временами подвержение сомнениям отдельных мест из Библии, и, как последний аккорд, обильное поглощение спайса. И он мог смотреть вперед, в вызывающее наибольший ужас направление, и видеть, куда это ведет.
— Я чудовище! — подумал он. — Урод! Нет. Сказал он себе. — Нет, нет, нет!»
Он поймал себя на том, что стал стучать кулаком по полу тента.
— Пол! — Его мать была подле него, держа его за руку, и ее склонившееся лицо казалось в полутьме серым пятном. — Пол! В чем дело!
— Ты! — сказал он.
— Я здесь, Пол, — сказала она. — Все в порядке.
— Что ты со мной сделала? — закричал он.
Она почувствовала, что этот взрыв искренности имеет под собой основу, и сказала:
— Я дала тебе жизнь.
И инстинкт, и собственные хитроумные знания подсказали ей, что этот ответ — самый верный способ успокоить его. Он почувствовал, как ее руки сжали его, и сосредоточился на ее неясно видимом в полутьме лице.
— Пусти меня, — сказал он.
Уловив в его голосе стальные нотки, она повиновалась.
— Ты не хочешь сказать мне, Пол, в чем дело?
— Ты знала, что делаешь, когда обучала меня? — спросил он.
В его голосе нет больше ничего детского, подумала она. И она сказала:
— Я надеялась, как это свойственно родителям, на то, что ты станешь… высшим, отличным от других человеком.
— Отличным?
Она услышала горечь в его голосе и сказала:
— Пол, я…
— Ты же хотела сына! — сказал он. — Ты хотела Квизац Хадераха! Ты хотела Бене Гессери мужского пола!
— Но, Пол… — горечь в ее голосе заставила его содрогнуться.
— Ты когда-нибудь советовалась об этом с моим отцом?
Свежесть утраты заставила ее говорить особенно мягко:
— Кто бы ты ни был, Пол, в тебе столько же от меня, сколько и от твоего отца.
— Но не в обучении, — сказал он. — Не в том, что… пробуждает… спящего.
— Спящего?
— Это здесь. — Он приложил руку ко лбу, потом к груди, — Во мне. И это становится все больше, больше и больше, и…