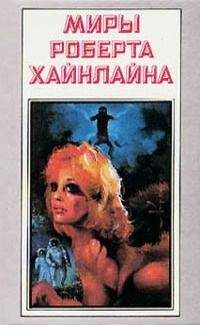Роберт Хайнлайн - Имею скафандр, готов путешествовать
— Чибис, ты можешь что-нибудь придумать?
Неожиданно она выступила вперед и крикнула в воздух:
— А разве не важно, что Кип спас Мамми?
— Нет, — ответил холодный голос. — Это иррелевантно.
— Но это должно считаться! — она снова плакала. — Как вам не стыдно! Хулиганы! Трусы! Да вы хуже сколопендеров!
Я оттащил ее назад. Она уткнулась мне в плечо и затряслась в рыданиях. Потом прошептала: «Прости, Кип. Я не хотела. Кажется, я все испортила».
— Мы и так наворотили — хуже некуда, солнышко.
— Имеете ли вы что-либо еще сказать? — неумолимо продолжал старый Безлицый.
Я оглядел зал. «…Когда-нибудь растают, словно дым, и тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы и храмы, и даже весь — о да, весь шар земной…»
— Только одно! — с яростью выложил я. — Я не в защиту, вы не желаете слушать защиту. Ладно, заберите нашу звезду… Заберите, если сможете… думаю, сможете. Давайте! Мы сами сделаем себе звезду! А потом, в один прекрасный день, мы вернемся и переловим вас — всех вас!
— Так им, Кип! Так им!
Никто не стал кричать на меня. Я вдруг почувствовал себя ребенком, который попал впросак и не знает, как это исправить.
Но я говорил то, что думал. Конечно, я и сам не верил в свои угрозы. Мы пока этого не можем. Но мы бы постарались. «Умри, сражаясь!» — самый гордый лозунг человечества.
— Это не исключено, — продолжал тот же раздражающий голос. — Вы закончили?
— Я закончил.
Мы все закончили… каждый из нас.
— Выскажется ли кто-то в их защиту? Люди, выступит ли за вас какая-либо раса?
Хм, если бы мы знали хоть одну расу! Разве что собак… возможно, собаки могли бы выступить.
— Я выступаю за них!
Чибис резко вздернула голову.
— Мамми!
Та вдруг оказалась перед нами. Чибис попыталась подбежать к ней и ударилась о невидимый барьер. Я схватил ее.
— Полегче, солнышко. Ее там нет — это что-то вроде телевидения.
— Собратья-наставники! За вами преимущества множества разумов и знаний…
Странно было наблюдать, как она поет, и слышать английскую речь; даже в переводе сохранялась ее певучесть.
— …но я знаю их. Это правда, что они необузданны — особенно младшая, — но это необузданность возраста. Можем ли мы ожидать зрелой сдержанности от расы, представители которой обречены умирать в раннем детстве? А разве сами мы обходимся без насилия? Разве не мы сегодня убили миллиарды существ? Сможет ли хоть одна раса выжить без воли к борьбе? Верно, что эти существа подчас агрессивнее, чем требует необходимость или мудрость. Но, собратья-наставники, они еще так молоды! Дайте им время повзрослеть.
— Повзрослеть — это именно то, чего мы боимся. Ваша раса чересчур сентиментальна; это обесценивает ваше суждение.
— Неверно! Мы сострадательны, но не глупы. Я лично непосредственно принимала участие в вынесении многих, многих отрицательных решений. Вы знаете об этом; это есть в ваших записях — я же предпочитаю об этом не помнить. Но и опять я буду принимать такие решения. Если ветвь неизлечимо больна, ее следует удалить. Мы не сентиментальны; мы наилучшие из наблюдателей, которых вы когда-либо находили, потому что делаем дело без гнева. Мы беспощадны ко злу. Однако мы любовно снисходим к ошибкам ребенка.
— Вы закончили?
— Я утверждаю, что эту ветвь не следует удалять! Я закончила.
Фигура Мамми исчезла. Голос продолжал:
— Выступит ли в их пользу еще какая-либо раса?
— Выступлю я.
Там, где только что стояла Мамми, оказалась огромная зеленая обезьяна. Она уставилась на нас, потрясла головой, потом неожиданно перекувыркнулась и принялась смотреть на нас меж собственных ног.
— Я не являюсь их другом, но я сторонник «справедливости». Этим я отличаюсь от моих коллег в Совете. — Она быстро перевернулась несколько раз. — Как сказала наша сестра, раса эта молода. Дети моей собственной благородной расы кусают и царапают друг друга — иногда до смерти. Даже я вел себя так в свое время.
Обезьян подпрыгнул, приземлился на руки и выдал кульбит.
— И разве кто-то здесь возьмется отрицать, что я цивилизован?
Он остановился, поскребся и внимательно осмотрел нас.
— Они звероподобные дикари, я не понимаю, как кто-то может питать к ним симпатию, но я говорю: дайте им шанс!
Изображение обезьяны пропало.
Голос сказал:
— Можете ли вы что-либо добавить, прежде чем решение будет принято?
Я начал говорить: «Нет, кончайте эту волынку…», но Чибис схватила меня за ухо и зашептала. Я послушал, кивнул и продолжил:
— Господин Модератор — если мы будем осуждены, не могли бы вы задержать палачей настолько, чтобы мы могли попасть домой? Мы знаем, что вы можете доставить нас всего за несколько минут.
Голос ответил не сразу.
— Почему вы хотите этого? Как я объяснил, лично вас не судят. Есть договоренность оставить вас в живых.
— Мы знаем. Но хотим оказаться среди своих, вот и все.
Снова секундное колебание.
— Это будет исполнено.
— Достаточны ли факты для вынесения решения?
— Да.
— Каково решение?
— Эта раса будет подвергнута повторному обследованию через десять периодов полураспада радия. На этом промежутке существует риск ее самоуничтожения. Ей будет оказана помощь против такого риска. Во время испытательного срока за ней будет наблюдать Мать-Хранительница… — машина пропела настоящее имя Мамми, — полицейский соответствующего сектора, которая будет немедленно докладывать обо всех угрожающих изменениях. В течение этого срока мы желаем данной расе успешного прогресса и совершенствования. Теперь же они должны быть возвращены к тем пространственно-временным параметрам, откуда были изъяты.
Глава 12
Я считал, что приземляться в Нью-Джерси, не имея полетного задания, чрезвычайно опасно. Вблизи Принстона тьма стратегических объектов; нас могли обстрелять чем угодно, вплоть до атомных ракет. Но Мамми снисходительно промурлыкала: «Думаю, до этого не дойдет».
И не дошло. Она посадила нас на околице, спела прощальную песенку и исчезла.
Конечно, нет ничего незаконного в том, чтобы прохаживаться по ночным улицам города в скафандрах, да еще с тряпичной куклой в руках. Но подозрения это вызывает — и нас замели полицейские. Они позвонили отцу Чибис, и уже через двадцать минут мы сидели в его кабинете, попивали какао с пшеничными хлопьями и разговаривали.