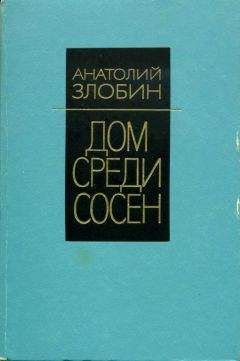Георгий Гуревич - Пленники астероида
Как только распахнулись ворота ангара, самолет ворвался в воющую мглу. Вокруг грохотало, свистело, ревело, кружились серые, бурые и светящиеся от электрических разрядов смерчи. Самолет швыряло, как лодочку на волнах. Стало жутковато. И впоследствии всегда мне было жутковато в первую минуту. Уж очень велика была разница между нашей станцией-скорлупкой и этим беспокойным, неуютным миром.
Но юное лицо Гены было только внимательным, не беспокойным. В сарабанде вихрей он не терял равновесия, уверенно пробивал тучи, дождевые и пылевые. И я, глядя на него, взял себя в руки, стал рассматривать нагромождения скал за фонарем и на экране. На экране даже удобнее было рассматривать, потому что скалы подцвечивались там условными тонами — ярко-красными, голубыми, желтыми…
— Каменоломня, — заметил Хозе через некоторое время.
Я увидел вздыбленную гряду. Здесь плита налезла на плиту, образовала ступень в полтора километра высотой, некоторое подобие Крымских гор, нависших над Черным морем. Правда, моря еще не было у их подножия.
— Здесь океан будет, островная гряда ни к чему. Помеха теплым течениям. Вот мы и срезаем ее под корень, — пояснил Хозе.
Самолет между тем вился над грядой, описывая круги. То взмывал к синему небу, то опускался к пестрым, разбитым трещинами утесам.
— Что ты мудришь? — крикнул Гена. — Давай с края, по порядку.
Хозе серьезно кивнул. В воздухе он не насмешничал. Тут они были равны: командир самолета и командир киб.
Хозе надел на руки медные браслеты с колечками для каждого пальца и вытянул кисти рук, словно собирался играть на рояле. Его движение тотчас передалось кибампилам, они оторвались от брюха самолета и спикировали. На экране я увидел два треугольника — синий и красный. Напряженно глядя перед собой, Хозе чуть пошевеливал пальцами. Он мысленно управлял кибами, каждой в отдельности. Мчались, обгоняя самолет, усиленные биотоки, и кибы послушно поворачивали вверх или вниз, вправо или влево.
— Резать! — сказал Хозе отрывисто.
Это он голосом подал команду пилам. Кибы вонзились в грунт — одна у подножия, другая на плоскогорье. Я затаил дыхание. И на Земле я видел, как пилят скалы, как взрывом поднимают горы. Но тут резали не горы, а поле тяготения, уничтожали притяжение.
И вот на моих глазах край гряды начал отслаиваться, зазмеилась трещина, разделяя плоскогорье, крайняя гора приподнялась, как будто под ней вздулся пузырь… и вдруг, потеряв вес окончательно, с грохотом оторвалась от подножия.
— Хороший кус, кубика на четыре потянет, — заметил Гена с удовлетворением. Кубиком он называл кубический километр, три тысячи миллиардов тонн.
— Домой! — скомандовал Хозе, резко сжимая кулаки.
Кибы, отпилившие гору, отвернули обе сразу и исчезли с экрана, улетели в ангар по записанному пути.
Гора между тем поднималась вверх на раздувающемся пузыре, стряхивая торчащие утесы. И мы поднимались рядом с горой, на уровне огненно-красной подошвы, чуть в стороне, чтобы утесы не задели нас. Все быстрее и быстрее. Гора продавила облака, высунулась над белыми клубами, выдвинулась в синее небо. Сколько раз впоследствии видел я взлетающие горы — и по сей день удивляюсь этому противоестественному зрелищу.
— Не упустишь? — спросил Гена.
— Осы пошли, — откликнулся Хозе.
Десятью пальцами он коснулся клавиш, и на экране зажглись десять точек, все разного цвета — голубая, белая, синяя, желтая, алая, вишневая, и так далее. Это стартовали кибы-осы, маленькие ракеты с атомными зажигалками. Уже через минуту все они сидели на горе, каждая на своем месте: красная — на левом краю, фиолетовая — на правом, голубая — наверху, желтая — у подошвы. Конечно, только на экране можно было видеть цветные точки, облепившие черный массив горы.
Муза, ты бы посмотрела на Хозе в эту минуту! Он был сосредоточен, серьезен и исполнен вдохновения, он напоминал пианиста-виртуоза. Все десять пальцев лежали у него на клавишах, но, не глядя на руки, вперив глаза в экран, он наигрывал беззвучную мелодию, то нажимал с силой, то постукивал, пробегал гаммой, брал аккорды… и послушные кибы отвечали ослепительными вспышками — долгими и короткими, одиночными и групповыми. И гора подавалась вверх и вбок, подпрыгивала, словно на невидимой ракетке. Хозе забавлялся с ней, как спортсмен с теннисным мячиком. Ниже, ниже, ниже… Падает? Нет, подхватил. Толчок! Прыжок вверх. И опять скольжение.
— Олимп, — предупредил Гена.
Заглядевшись на экран, я не заметил, как над облаками вырос мрачный конус, груда утесов, накиданных титанами. Теперь-то я знал, что титаны — это Гена и Хозе.
— Переверни-ка! — сказал Гена.
Хозе нажал две крайние клавиши мизинцем и безымянным. Гора закружилась, словно колесо. Так, кувыркаясь, она катилась по небу к Олимпу. Хозе, наклонившись к экрану, напряженно скрючил пальцы. Цветные огоньки кружились всё быстрее, свиваясь в нитки, в обручи, как при танце с лентами. Теперь осы, впившиеся в гору, крутились вместе с ней, клавиши меняли смысл, назначение, а виртуоз Хозе продолжал свою игру на переменной клавиатуре. Голубая — толчок вниз, голубая спустя секунду — толчок вперед, красная — вправо, красная — влево. Медленнее, медленнее… еще чуть…
И вот, подняв тучу пыли, летящая гора тяжко села на склон Олимпа.
— Там родилась, — сказал Гена, довольно улыбаясь.
Хозе в изнеможении откинулся на кресло, полузакрыв глаза.
А я с завистью глядел на его гибкие пальцы. Вот это мастерство! Сколько лет нужно, чтобы так научиться играть в кошки-мышки с долями секунд и миллиардами тонн… Сумею ли я когда-нибудь перенять такое мастерство? Не нужен ли особый талант?
Будь я девушкой, Муза, я бы не выходил замуж, не посмотрев любимого на работе. Пусть он будет посредственный танцор и собеседник, средний поэт, как Гена, или доморощенный философ, вроде Хозе… но ты бы посмотрела, как он жонглирует горами! Человек, Муза, ценится не по среднему своему уровню, а по высшему достижению. Если спортсмен раз в жизни, единственный раз, прыгнет на десять метров, то только за этот прыжок его имя внесут в золотую книгу рекордов. И если ученый сделает тысячу ошибок, но одно важное открытие, люди, забыв ошибки, за это единственное открытие поставят ему памятник.
Впрочем, у вас, у девушек, бывает особый, косой, я бы сказал, подход к человеку. Сестра мне сказала как-то: “Не надо гениального. Пусть будет любящий и заботливый, пусть будет хороший муж”. А ты, Муза, такого же мнения? Ты могла бы любить ласкового и бездарного, любящего и слабодушного? Могла бы?
Где-то тут, думается, началось у нас непонимание.
Людей Поэзии мы видели разными глазами. Я имел дело с титанами, жонглирующими горами, а к тебе приходили усталые, отдыха желающие заурядные любители стихов и пения. Я с предельным напряжением сил старался догнать виртуозов, а ты выполняла обязанности чертежницы и обучала любителей азам искусства. Работать вполсилы скучно, скучно делать то, что ты давно умеешь. Я понял это много позже, когда научился класть горы почти как Хозе. А тебе стало скучно почти сразу. И однажды я услышал: